Что это такое
Определение, что такое гедонизм даётся обычно в философских направлениях, где прямое трактование сводится к наслаждению, что также является практически дословным переводом с греческого. Если рассматривать понятие шире, то это не только посредственное и бездумное стремление к удовольствию материальному, но также и жизненная цель в стремлении наслаждаться каждой секундой, соответственно человек продумывает другие свои действия и ставит цели для получения ещё большего наслаждения.
Конечно, подобная человеческая позиция может привести к тому, что для своего удовольствия человек может переступить социальные нормы или просто пренебрегать общественным порядком – это вопрос внутренней культуры и опять же удовольствия. Иногда бывает значительно полезней нарушить социальный кодекс и грубо ответить тем, кто нарушает ваши психологические границы, тем самым сохранив свой душевный покой и психическое равновесие, вместо того чтобы тратить время на негативное общение.
Простыми словами гедонизм представляет собой исповедование не очень сложных удовольствий.
Это простые моменты радости от вкусной пищи, интима, алкоголя, общения с друзьями и занятий хобби. Более сложные формы могут включать достижение высоких навыков развития какого-то качества, где сам процесс познания и результат приносят удовольствие. Гедонист никогда не будет учиться езде на лошади, если это приносит страх и напряжение, какие бы выгодные моменты за этим не стояли потом. Но вот, когда сам процесс развития приносит кайф, тогда и достижение становится очень мотивированным.
Примеров может быть сколько угодно, весь смысл сводится к тому, что каждая личность получает удовольствие в зависимости от своего уровня развития и общих ценностей. Одинаково можно считать гедонистом того, кто тратит последние деньги на алкоголь и того, кто на последние копейки покупает книгу по квантовой механике.
Истинные смысл жизни гедонизма никогда не будет про разрушительные последствия, поэтому те, кто, прикрываясь этим течением, употребляют наркотики, убивают других, грабят магазины, скорее причисляются к сибаритам, ведь настоящий гедонист будет развиваться и переходить на более высокие уровни.
Этот человек, живя в тёплой квартире, захочет сменить её на дом, прочитав пару умных книг, захочет совершенствоваться дальше. Всё не упирается в физические наслаждения, хотя этот комфорт ценится высоко, гедонист будет придерживаться более изысканных желаний, которые не наскучат за один день и всегда имеют продолжение.
Гедонизм. эвдемонизм. перфекционизм.
В истории этической мысли «стремление к удовольствиям» зачастую объявлялось главным истоком всей морали (нравственности), причиной ее происхождения и конечной целью ее развития. Такой подход принято называть гедонизмом (от древнегреческого «удовольствие»).
Если обобщить определения из разнообразных словарей и энциклопедий, то Гедонизм– это система взглядов и (или) образ жизни, основанные на убеждении, что стремление к наслаждению и избавление от страданий – главная причина (движущее начало) человеческих действий, а также основой путь к людскому счастью.
Прямой противоположностью гедонизма считается аскетизм, присущий различным религиозным и этическим доктринам, проповедующим воздержание от удовольствий вплоть до полного отказа от мирских благ и подавления всех чувственных устремлений.
Обычно гедонисты сосредотачивают внимание на удовольствиях, но есть и такие, что вслед за древним философом Гигесием Александрийским призывают ограничиться уклонением от страданий, ибо иные удовольствия все равно обманчивы и сулят «тяжкое похмелье». Отсутствие же страданий обеспечивает подлинное и длительное удовольствие. Такие «гедонисты-уклонисты» придумывают и распространяют среди приверженцев различные «методы ухода от страданий» («уклонения от реальности»): от возвышенных наслаждений собственным или чужим творчеством и погружения в нирвану до пьянства и наркотиков.
Принимая во внимание принципиальное различие между телесными и духовными удовольствиями, в особое этическое учение выделяют «эвдемонизм» (от древнегреческого — счастье), где в качестве благ, к которым нужно стремиться в погоне за счастьем, фигурируют только возвышенные душевные наслаждения. Естественно, такое учение всегда предназначалось исключительно для узкого круга избранных, так как интеллектуальные наслаждения недоступны всем или многим. Но даже там, где эвдемонизм не считается одной из разновидностей гедонизма, «стремление к счастью» в качестве духовной ценности (душевного блаженства) продолжает противопоставляться телесным удовольствиям.
Как пишет российский философ Апресян, детально исследовавший взгляды гедонистов: «Гедоническое мироощущение органично человеческому естеству и биологически оправданно».
С этим можно согласиться: действительно, удовольствие и неудовольствие, – очень распространенные, присущие любому из нас ощущения (чувства). Они помогают рассортировать наши впечатления на положительные и отрицательные эмоции, и в последующем сориентироваться в окружающем мире. По ним каждый индивид определяет, что благоприятно для его нормальной жизнедеятельности, а что нет; что хорошо сочетается с потребностями организма, а что наоборот губительно или разрушительно.
Видимо, поэтому самый распространенный вид гедонизма – бытовой. Те, что придерживаются гедонизма в быту, зачастую и не подозревает о существовании правильного научного названия, заимствованного из древнегреческого языка. Да и вообще «любители сладкой жизни» легко обходятся без слов, если не считать приправленного сочными междометиями «смакования» прошлых, нынешних или будущих «удовольствий». Даже «Благом» такие люди зачастую называют то, что им приятно и желательно, а «злом» — нечто неприятное (противное) для них лично. «Парадигму морали» или «жизненное кредо» приверженцев такого «гедонизма» можно выразить тремя словами: «Насладись по полной».
И что удивительно: даже самоотверженный искатель высшей мудрости Спиноза шел на поводу у такой гиперболизации «личных капризов», утверждая: «Мы ничего не желаем потому, что оно добро, но, наоборот, называем добром то, что желаем ради собственных удовольствий и, следовательно, то, к чему чувствуем отвращение, называем злом«2.
Конечно, между людьми, склонными к удовольствиям, имеются принципиальные различия. Кто-то предпочитает телесное, а кто-то – духовное. Кто-то выбирает приятное окружающим, а кто-то ‑ весьма неприятное и вредное для всех, кроме него самого, наслаждающегося чужими страданиями. И это неудивительно. Когда о четкости (конкретности) этического принципа мало задумываются, то этот принцип может стать очень расплывчатым названием, объединяющим псевдо единомышленников – людей, совершенно непохожих друг на друга: героя и негодяя, яркую личность и жалкую посредственность.
Кроме чисто физиологических обоснований ныне в ходу целый ряд умозрительных аргументов в пользу гедонизма, сводящихся к следующему:
— удовольствие сопровождает любое исполнение желаний и реализацию человеческой воли в целом;
— удовольствие свидетельствует о полноте насыщения подлинной жизненной потребности;
— удовлетворенный человек ни от чего и ни от кого не зависит, то есть по-настоящему свободен;
— сладость наслаждения имеет столь притягательную силу, что противиться ей могут только лица, изуродованные болезненным пристрастием к «мазохизму» или «аскетизму», мало отличающемуся от садомазохистской схимы.
Эвдемони́зм (греч. ευδαιμονία — процветание, блаженство, счастье) — этическое направление, признающее критерием нравственности и основой поведения человека его стремление к достижению счастья.
Согласно приверженцам эвдемонизма, наивысшим благом для человека является счастье. По словам Аристотеля, учение которого относят к эвдемонизму, счастье «мы всегда избираем ради него самого и никогда ради чего-то другого». Среди средневековых мыслителей эвдемонизм был свойственен учению Фомы Аквинского и сводился к утверждению, что наивысшее счастье заключается в познании Бога и возможности узреть его в грядущей жизни.
Представители гедонистического направления в эвдемонизме, к которым относят Эпикура, Гассенди, Ламетри, Вольтера, Гольбаха, отождествляли счастье и удовольствие. Однако, в отличие от гедонизма, удовольствие тут ставится в прямую зависимость от добродетелей человека. Согласно Эпикуру, высшим родом удовольствий являются не низменные физические удовольствия, а утонченные духовные. Счастлив тот, кто достиг состояния полной безмятежности или атараксии.
Одним из критиков эвдемонизма в этике был Иммануил Кант, полагавший, что мотивом по-настоящему морального поступка может быть только долг, но не стремление к счастью.
В современной психологии такое направление как позитивная психология ведёт свою историю от учений древнегреческих философов об эвдаймонии.
В восточной философии к эвдемонистическому учению можно отнести буддизм с его постулатом об избавлении от всех страданий с целью достижения нирваны. По словам Далай-Ламы XIV «Основная цель человеческой жизни — счастье. Это очевидно. Независимо от того, кто мы — атеисты или верующие, буддисты или христиане, — все мы ищем чего-то лучшего в жизни. Таким образом, по моему мнению, основное движение в нашей жизни — это движение к счастью…»[4].
Представители эвдемонизма: Аристотель, Вольтер, Гольбах, Дидро, Монтень, Сенека, стоики, Спиноза, Фома Аквинский, Эпикур, и др.
В этике и теории ценности, перфекционизм — постоянство желания в получении оптимального качества духовного, умственного, физического, и материального существа. Неоаристотелевский Томас Херка описывает перфекционизм следующим образом:
Перфекционист не обязательно полагает, что можно достигнуть прекрасной жизни или состояния проживания. Скорее перфекционистские методы устойчивая настойчивость в получении самой лучшей жизни или состояния проживания.
Совершенство означает больше, чем — или что-то другое от — счастье или удовольствие, и перфекционизм отличен от утилитаризма во всех его формах. Общество, преданное перфекционистским принципам, может не произвести счастливых граждан — отнюдь нет. Кант расценил такое общество как правительственный патернализм, в котором он отрицал ради «патриотического» государства. В то время как человек ответственен за то, что жил добродетельной жизнью, государство должно быть ограничено регулированием человеческого сосуществования.
Альфред Нэкет написал в этом отношении:
Истинная роль коллективного существования… должна учиться, чтобы обнаружить, знать. Еда, выпивая, спя, живя, одним словом, является простым соучастником. В этом отношении нас не отличают от скота. Знание- цель. Если я был осужден выбрать между человечеством, существенно счастливым, насыщенным после манеры стада овец в области и человечеством, существующим в страдании, но от которого выделяемый, тут и там, некоторая вечная правда, это находится на последнем, мой выбор упал бы.
Нет никаких универсальных параметров совершенства. Люди и культуры выбирают те ценности, которые, для них, представляют идеал совершенства. Например, один человек может рассмотреть образование как ведущее совершенство, в то время как другой красоте самый высокий идеал.
§
Этический сентиментализм — это обобщенное название для мыслительной традиции в новоевропейской этике, представители которой полностью или частично основывали мораль на моральном чувстве (или чувствах, эмоциях). Родоначальником этического сентиментализма является английский философ Энтони Эшли Купер, 3-й граф Шефтсбери. Именно он ввел в этический обиход понятие «моральное чувство». Он берется за исследование добродетели как заслуги; добродетель для него — это характеристика действий человека. Он стремится понять, каким образом человек постигает добродетель и определяется в отношении ее. Так он приходит к идее морального чувства, как особого рода познавательной способности. Значение Шефтсбери выходит за рамки этического сентиментализма. Он оказал значительное влияние на развитие вообще просветительской мысли, в особенности на континенте.
Для Френсиса Хатчесона, мораль — это особого рода идеи, воспринимаемые моральным чувством. Иными словами, это, с одной стороны, идеи, обобщенно выраженные в понятиях добра и зла, а с другой — способность человека их воспринимать и способ, каким он их воспринимает. Моральное чувство — это познавательная способность, направленная на постижение добра и зла, а также способность высказывать суждения о них.
Джозеф Батлер был проповедником и ему был свойствен пасторски-теологический образ мысли. Батлер начинает свое рассуждение с рассмотрения человеческой природы. Быть моральным, для Батлера, это значит быть естественным, соответствовать природному предназначению.
Таким образом, Батлер продолжает критику этики эгоизма. Он признавал наличие в человеке разнонаправленных эмоций; причем себялюбивые эмоции могут быть как естественными, так и противоестественными, частными. Эти основные положения моральной этики Батлера — о приоритете благожелательности по отношению к эгоизму и приоритете совести по отношению к разуму — характеризуют его как мыслителя сентименталистского направления.
Давид Юм (1711-1776) в вопросе о роли разума и морального чувства в морали в основном развивает идеи Хатчесона. Критикуя интеллектуалистов, Юм стремится показать, что разум несостоятелен в морали, а моральные различия проистекают не из разума, который по своей природе направлен на различение истины и заблуждения.
Юм выделяет следующие характеристики морального восприятия. Во-первых, это восприятие представляет собой не идею, а впечатление. Во-вторых, моральные впечатления гедонистически окрашены (будучи вызваны добродетелью, они приятны, а пороком — неприятны). В-третьих, моральные восприятия бескорыстны, они безотносительны к частному интересу индивида, не зависимо от того, идет ли речь о мотиве действия, восприятии чужого действия или сторонней оценке действий и характеров. В-четвертых, моральные различия воспринимаются непосредственно, они очевидны; и их сопряженность с особого рода удовольствием и страданием обеспечивает этот интуитивный, характер моральных восприятий.
Другим важным моментом этики Юма было учение о благожелательности. Концепция благожелательности наполняет учение Юма о моральном познании определенным ценностным содержанием. Благожелательность, или доброта, — основополагающая добродетель, регулирующая все остальные добродетели. Наоборот, основополагающим пороком является бесчеловечность.
В философии Смита как концепция морального чувства, так и сам этический сентиментализм претерпевают значительные изменения. Смит не принимает мнения, согласно которому есть некая определенная моральная способность — моральное чувство, — посредством которой воспринимаются моральные различия и на основе которой высказываются моральные суждения.
Утилитаризм
Утилитаризм (от лат. utilitas — польза, выгода) — направление в этике (этическая теория), согласно которому моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью.
Во времена доминирования предприимчивости, когда деловая хватка гарантирует достойное положение в обществе, само «Добро» предпочитают трактовать как «пользу», а нравственную добродетель – как стремление принести максимальную пользу себе и (или) окружающим. Этика такого рода называется утилитаризмом или прагматизмом.
Утилитаризм (от латинского «utilitas» — польза) – этическая теория, рассматривающая в качестве источника нравственности «полезность». Именно «польза», по мнению утилитаристов, составляет истинную сущность поступков человека при формировании его отношений с другими людьми. Причем наилучшими должны считаться поступки, направленные на достижение наибольшего счастья наибольшим числом людей.
Прагматизм (от древнегреческого πραγμα — деяние, действие) – направление в нравственной философии, отождествляющее добро с полным удовлетворением практических потребностей (реально поставленных целей), каждый раз неповторимых, не сводимых к каким-то общим для всех определениям.
Этических доктрин столь же противоположных утилитаризму и прагматизму, как аскетизм ‑ гедонизму, не существует. Более того, сознательные призывы к чему-то заведомо бесполезному или вредному науке неизвестны. Противники той или иной доктрины могли расценивать поставленную в доктрине цель как бесполезную и даже вредную, но всякий сторонник той же доктрины всегда находил в ней нечто весьма полезное.
Польза во все времена понималась, как положительная ценность, и в отличие от удовольствия не несла в себе никакого негативного оттенка (привкуса). Неприязненного отношения удостаивались не те, что стремятся к пользе, а только те, кто ради собственной выгоды причиняет вред окружающим. Тот же, кто не посягал на чужое, преследуя собственную выгоду, всегда пользовался уважением, а заботящийся о пользе человечества – всегда считался героем, заслуживающим всеобщего признания и публичного одобрения.
В качестве жизненного принципа полезность выражается в максиме: «Польза превыше всего!» При этом к числу достижений (дополнительных ценностей), сопровождающих извлечение пользы относят «выгодность», «предприимчивость», «успех» («преуспеяние»), «эффективность», «оптимальность средств». В то же время алчность, потребительство, карьеризм и т.п. считаются извращенными формами стремления к пользе.
И хотя в теории «утилитаризма» говорится, что любое наше действие, независимо от наших субъективных представлений, постоянно направлено к какой-то пользе, тем не менее, и в книгах, и в жизни звучит призыв: «Из всего извлекай пользу!» Что это, если не косвенное признание того, что стремление к пользе не вездесуще, что оно требует, как минимум, дополнительных усилий над собой, каких-то предварительных размышлений, направленных на осознание пользы и составление плана (алгоритма) ее извлечения?!
В обыденном сознании легко приживается обоснование этики, основанной на стремлении к полезному: дескать, каждый отвечает сам за себя, поэтому пусть он сам о себе и позаботиться; когда же о собственной пользе станут радеть все (причем сугубо самостоятельно!) ‑ в мире не останется неудовлетворенных людей.
Утилитаристы и прагматики легко (без длительных размышлений и угрызений совести) приспосабливаются к существующим условиям, приноравливаются к другим людям, а, если это возможно и более выгодно, то энергично подстраивают действительность под себя. Их не беспокоят несовершенства мира, поскольку и тот мир, что есть, сулит неисчерпаемые выгоды тому, кто не упустит своего и хорошо знает, как пользоваться имеющимися возможностями.
Там, где другие ищут цель жизни, человек, стремящийся к полезному, озабочен только подбором средств для получения желательного ему результата. «Все, что окружает утилитариста, как бы утилизируется, подгоняется под его частные цели»— писал английский неолиберал Мур, близкий по своим воззрениям к утилитаризму.
Логика стремления к полезности вынуждает обращать внимание и на людей (даже самых близких) лишь в той мере, в какой они могут быть полезными, то есть предоставить вещи или услуги, необходимые или выгодные.
Гегель о таком миропонимании писал: «Каждый для себя цель, а все другие для него лишь средство, то есть ничто в качестве самоценной личности. Но без соотношения с другими он не может достигнуть искомого объема своих целей, поэтому вынужден искать общения и взаимодействия в собственных интересах»17
На бытовом же уровне торжествует лаконичный принцип: «Ты — мне, я – тебе!» Тот, в ком никакой пользы не видят, становится неинтересным и даже абсолютно безразличным. Тот же, кто препятствует извлечению выгоды (пусть и по самым благородным основаниям) рассматривается в качестве подлежащего устранению врага или гнусного злодея, от которого необходимо держаться как можно дальше.
Больше всего утилитаристы и прагматики гордятся своим реализмом. Мы, мол, реально смотрим на вещи, основываем свои планы на многолетнем опыте и точном расчете, не обманываем себя розовыми мечтаниями, стремимся только к достижимому, приносящему пользу на самом деле. И каждый свой успех, собственную солидность и благополучие «стремящиеся к пользе» расценивают как явное подтверждение правильности (победоносности) избранной жизненной стратегии, подтверждением жизнеутверждающего характера моральных принципов утилитаризма-прагматизма.
Гордятся они и тем, что их теория позволяет в любых пропорциях сочетать на практике пользу личную и пользу общественную, как две равнозначные и равноправные ценности.
В широком социально-философском смысле, принцип полезности служит важнейшей «идейным столпом» так называемого «гражданского общества», основанного на автономии индивидов, равенстве всех перед законом, священном праве частной собственности, свободе выбора занятий и других правах, и свободах, без которых стремление к извлечению выгоды невозможно или затруднительно.
Таким образом, деловой интерес соединяет людей, когда им это выгодно, но создает вакуум безразличия во всех остальных сферах человеческого общения, дает ориентиры для повседневной жизни, но лишает эту жизнь «возвышенного смысла».
Термин «утилитаризм» принадлежит английскому философу Джону Стюарту Миллю (1806-1873). Так называлось его основное морально-философское произведение – «Утилитаризм» (1863), в котором он систематизировал и обосновал основные положения, развитые его учителем, Джереми (Иеремия) Бентамом (1748-1832) в трактате «Введение в основание нравственности и законодательства» (1780, опубл. 1789). Благодаря Миллю именно под этим названием он вошел в историю этики как особая разновидность моральной теории, в которой мораль основывается на принципе пользы. Утилитаризм (от лат. utilitas – польза) и означает теорию пользы, точку зрения, основанную на пользе.
Джереми Бентам. Ранний, или классический, утилитаризм предложил моральную теорию, в которой, так же как это было у французских материалистов (в частности, у Гельвеция), этика непосредственно опирается на антропологию. Так, по Бентаму, удовольствия и страдание суть основополагающие природные принципы человеческой жизни. Мораль, право и государство должны строиться в соответствии с этим природным началом. Для социальных институтов Бентам обобщенно обозначает это начало как принцип полезности, или величайшего (возможного) счастья или благоденствия. В развернутой форме он утверждает «величайшее счастье всех тех, о чьем интересе идет дело, истинной и должной целью человеческого действия», целью «во всех отношениях желательной», а также «целью человеческого действия во всех положениях, и особенно в положении должностного лица или собрания должностных лиц, пользующихся правительственной властью». Формулировка принципа пользы не принадлежит Бентаму, и он никогда не приписывал ее себе. Она проходит через весь XVIII в., начиная с Ф. Хатчесона, и встречается у Ч. Беккария, Д. Пристли, К. Гельвеция и др. Однако именно Бентам придал ей принципиальное значение для построения теории морали. Бентам рассматривал ее не только как описательный и объяснительный принцип нравственности, но и как основополагающее этико-нормативное начало: принцип полезности задает главный критерий оценки действий.
У Хатчесона эта формулировка имеет следующий вид: «То действие является наилучшим, которое обеспечивает самое большое счастье для наибольшего числа людей» (Хатчесон Ф. Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели. Впоследствии многие комментаторы, в том числе Г. Сиджвик, а вслед за ним и Дж. Ролз, необоснованно рассматривали Хатчесона в качестве зачинателя утилитаризма. Идея этого принципа хотя и не в сформулированном, но развернутом виде встречается уже у Цицерона (Цицерон. Об обязанностях).
Все люди, согласно Бентаму, стремятся к удовлетворению своих желаний. Счастье, или польза заключается в удовольствии, но при отсутствии страдания, т.е. счастье заключается в чистом, длительном и непрерывном удовольствии. И удовольствие, и польза понимались Бентамом предельно широко: наслаждение – это всякие наслаждения, в том числе чувственные, польза – всякая польза, в том числе выгода. Бентам безусловно «генерализировал» принцип полезности, полагая, что он обобщает все известные принципы морали. Приведя девять различных принципов, отстаивавшихся в моральной философии XVIII в., Бентам замечает: «Фразы различны, но принцип один и тот же».
Соединением добродетели и пользы, а также, как это видно из развернутой формулировки принципа полезности, морали и политики Бентам серьезно покушался на устойчивые стереотипы морального сознания и этики, а именно на то, что добродетель противоположна пользе и что в политике и в морали основополагающие принципы различны. Однако Бентам придерживался представления о цельности ценностной сферы и рассматривал антитезу добродетели и пользы как результат смутного понимания как одного, так и другого. Как выразил это русский последователь Бентама Н.Г. Чернышевский (1828-1889), различия между пользой и добром носят лишь количественный характер: польза – превосходная степень удовольствия, добро – превосходная степень пользы (Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии). Поэтому для Бентама при правильном понимании блага нет существенной разницы между удовольствием, пользой, добродетелью и счастьем: это разные слова для обозначения одного и того же. Польза – обобщающее понятие, но проверить, является ли определенное действие человека или мера правительства нравственной, или полезной, или доброй, мы реально можем, лишь исследуя в какой степени оно содействовало повышению количества и качества удовольствия людей. Поэтому, приведя реестр основных удовольствий и страданий человека и дав их классификацию, Бентам посвятил специальную главу возможности измерения удовольствий и страданий. Но если в этом он продолжал традиции английской моральной философии, то в анализе различных случаев моральной оценки на основе сопоставления мотива и результата (причем не только по критерию положительный – отрицательный, но и по их качественно-ценностному разнообразию) Бентаму принадлежит несомненный приоритет.
Джон Стюарт Милль придал утилитаризму статус концепции, не только выступив с опровержением многочисленных критиков учения Бентама, но и сформулировав позиции утилитаризма по отношению к априоризму и интуитивизму, в частности, как они были выражены Кантом и его английскими последователями.
В продолжение той линии в моральной философии, которая идет от Аристотеля и Эпикура, и в противовес кантианству — Милль выводит мораль из того, что составляет конечную (высшую) цель человека. Все люди стремятся к удовлетворению своих желаний, и счастье, или польза заключаются в чистом, длительном и непрерывном удовольствии. При этом утилитаризм — это теория, направленная против эгоизма, т.е. против такой точки зрения, согласно которой добро заключается в удовлетворении человеком личного интереса. Приемлемость или неприемлемость в каждом конкретном случае получаемого удовольствия или выгоды определяется тем, содействуют ли они достижению высшей цели, т.е. общему счастью. На этом же основываются определения (оценки) явлений и событий как хороших или дурных.
Соответственно, мораль определяется Миллем как «такие правила для руководства человеку в его поступках, через соблюдение которых доставляется всему человечеству существование наиболее свободное от страданий и наивозможно богатое наслаждениями» (Миллъ Дж.С. Утилитарианизм).
В полемике с критиками утилитаризма Милль проясняет принцип пользы. Польза действительно заключается в счастье. Но это не личное, а общее счастье: от личности требуется не стремиться к собственному счастью, а содействовать счастью других людей. Такого рода требования имеют смысл. Поскольку было бы наивным уповать на достижение всеобщего счастья и даже счастья значительной части людей, принцип пользы на самом деле предполагает (и предполагает в первую очередь) стремление человека к устранению и уменьшению несчастья. А это уже вполне реалистичная цель.
Провозглашая общее благо как высший принцип нравственности, Милль, как и его предшественник Бентам, подчеркивал, что человек должен, имея в виду высший нравственный принцип, стремиться обеспечить хотя бы свое частное благо. Вполне в духе протестантской этики тем самым предполагается, что человек должен исполнить в первую очередь свое профессиональное и социальное предназначение; но исполнить его с чистыми руками, по совести — добродетельно. Соответственно Милль решал и проблему добродетели: хотя добродетель может восприниматься индивидом как благо само по себе, она не является целью самой по себе, а есть лишь средство для ее достижения. «Человек не имеет ни малейшего побуждения, ни малейшего желания быть добродетельным: добродетель возбуждает его желание только потому, что составляет средство получить наслаждение и, в особенности, устранить страдание…». Добродетель ценна не сама по себе, а как средство для достижения счастья или как часть счастья.
Этика И. Канта
Вопросам этики Кант посвятил философскую работу «Критика практического разума». По его мнению, в идеях чистый разум говорит свое последнее слово, а далее начинается область практического разума, область воли. Ввиду того, что мы должны быть нравственными существами, воля предписывает нам постулировать, считать познаваемыми некоторые вещи в себе, как, например, нашу свободу и Бога, и вот почему практический разум имеет первенство перед теоретическим; он признает познаваемым то, что для последнего только мыслимо. В силу того, что наша природа чувственна, законы воли обращаются к нам в виде приказаний; они бывают или субъективно-действительны (максимы, волевые мнения индивидуума), или объективно-действительны (обязательные предписания, императивы). Среди последних своей несокрушимой требовательностью выделяется категорический императив, повелевающий нам поступать нравственно, как бы ни влияли эти поступки на наше личное благополучие. Кант считает, что мы должны быть нравственными ради самой нравственности, добродетельными – ради самой добродетели; исполнение долга само по себе составляет цель хорошего поведения. Мало того, вполне нравственным может быть назван только такой человек, который совершает добро не вследствие счастливой склонности своей натуры, а исключительно из соображений долга; истинная нравственность скорее побеждает склонности, нежели идет с ними рука об руку, и в числе стимулов добродетельного поступка не должно быть природной склонности к таким поступкам.
Согласно идеям этики Канта, закон нравственности ни по своему происхождению, ни по своей сущности не зависит от опыта; он априорен и поэтому выражается только в виде формулы без всякого эмпирического содержания. Он гласит: «поступай так, чтобы принцип твоей воли всегда мог быть и принципом всеобщего законодательства». Этот категорический императив, не внушенный ни волей Бога, ни стремлением к счастью, а извлекаемый практическим разумом из своих собственных глубин, возможен только при предположении свободы и автономии нашей воля, и неопровержимый факт его существования дает человеку право смотреть на себя, как на свободного и самостоятельного деятеля. Правда, свобода – идея, и реальность её не может быть доказана, но, во всяком случае, ее необходимо постулировать, в нее необходимо верить тому, кто хочет исполнить свой этический долг.
Высшим идеалом человечества является соединение добродетели и счастья, но опять-таки не счастье должно быть целью и мотивом поведения, а добродетель. Однако Кант полагает, что этого разумного соотношения между блаженством и этикой можно ожидать только в потусторонней жизни, когда всесильное Божество сделает счастье неизменным спутником исполненного долга. Вера в осуществление этого идеала вызывает и веру в бытие Бога, и теология, таким образом, возможна только на моральной, но не на умозрительной почве. Вообще, основанием религии является мораль, и заповеди Бога – это законы нравственности, и наоборот. Религия отлична от морали лишь постольку, поскольку к понятию этического долга она присоединяет идею Бога, как морального законодателя. Если же исследовать те элементы религиозных верований, которые служат придатками к моральному ядру естественной и чистой веры, то надо будет прийти к заключению, что понимание религии вообще и христианства в частности должно быть строго-рационалистическим, что истинное служение Богу проявляется только в нравственном настроении и в таких же поступках.
Эволюционистская этика
Эволюционная этика — направление в буржуазной философии морали, к-рое толкует происхождение, природу и назначение нравственности с позиций биологического эволюционизма. Основоположником этого направления считают Спенсера, рассматривавшего нравственность как форму развития эволюционного процесса, обнимающего всю живую природу, на той его ступени, к-рая соответствует человеческому об-ву. Добро он определял как «более развитое», а зло — как «менее развитое».
Идеи Спенсера получили развитие в буржуазной этике XX в., в учении амер. неореалиста Э. Хоулта, англ. философов Дж, Хаксли и К. Уоддингтона, фр. теолога и палеонтолога Тейяра де Шардена. При всех различиях теорий морали, относящихся к данному направлению, их объединяет общий методологический принцип: нравственность рассматривается не как специфически общественное явление, а как проявление процесса биологической эволюции, определенной фазой к-рого якобы является история об-ва.
Человек с этой т. зр. — высокоразвитое и социализированное животное, а мораль — система условных рефлексов, вырабатываемых об-вом в ходе его эволюции и служащих для человека орудием приспособления к среде. Хоулт, напр., вообще отрицает общественный характер морали. Понятия добра и долга, с его т. зр., — это средства ориентации человека в природной действительности; они якобы помогают людям осуществить в своем поведении требования органической эволюции, привести поступки в соответствие с внешней средой.
В др. теориях Э. э. биологизм выражен не так явно, а проявляется в заимствовании методологии и понятий из научно-теоретического аппарата эволюционной биологии. Сторонники Э. э. часто высказываются против субъективизма и крайнего релятивизма в истолковании нравственности, по-своему пытаются найти объективные основания морали при помощи данных естественной науки.
В целом такого типа теории можно отнести к вульгарно-механистическим, хотя в них часто имеются также элементы объективного идеализма, фрейдизма и бихевиоризма. Ненаучность данного направления нередко совмещается с реакционностью проповедуемых идей. Напр., у Хоулта достаточно ясно выражены антиобщественные мотивы индивидуализма и эгоизма.
§
Прикладная этика – совокупность принципов, норм и правил, выполняющих на основе нормативной этики практическую функцию научения людей должному поведению в конкретных ситуациях и в определенных сферах их жизнедеятельности. Сущность прикладной этики заключается, следовательно, в конкретизации общечеловеческих моральных норм и принципов применительно к данным ситуациям, для отдельных групп людей, с учетом специфики жизнедеятельности. Прикладная этика (ПЭ) аккумулирует в себе взаимодействие этической теории, моральной жизни и нравственного воспитания личности, разрабатывает специальные формы и технологии этих процессов и управления ими. Она не просто использует теоретические этические наработки, а превращает их в специфическую, практически новую информацию, преобразованную для новую конкретной деятельности или ситуации.
Специфичность ПЭ проявляется в ряде ее особенностей.
По сравнению с общей этикой ПЭ более специализирована и более прагматична. ПЭ включает в себя не только собственно теорию морали, но и комплекс внеэтических знаний о морали — социологических, психологических, педагогических.
ПЭ отличается сильным технологическим аспектом: она предполагает разработку способов и методов внедрения прикладного знания в практику в виде проектов, программ, эталонов, моделей, кодексов, представляющих в своей совокупности ее «опредмеченную силу». В процессе «приложения» происходит доразвитие общечеловеческих норм и требований этики.
«Практичность» ПЭ проявляется, прежде всего, в ее структуре, в которую входят:
этика гражданственности;
экологическая этика и биоэтика;
этика межличностного общения;
ситуативная этика;
профессиональные этики;
этика делового общения.
Анализ развития западной этики (мы имеем в виду прежде всего англоязычные страны) на протяжении двадцатого века позволяет выделить несколько главных этапов. С самого начала века был поставлен вопрос о необходимости переосмысления задач этики, нахождения новых путей и методов, по сравнению с предыдущей традиционной этикой, ее развития. Уже первый (хронологически) теоретик этики XX века — Дж.Э.Мур — выступил с критикой всех традиционных направлений этики. Он подробно проанализировал недостатки и ошибки метафизической, наиболее ярко представленной еще Кантом, натуралистической этики, в самых различных ее разновидностях, утилитаристской, эмотивистской этики, и показал, что ни одно из существовавших в этике направлений не в состоянии решить ни один из ее основополагающих вопросов — что такое добро, идеал, правильное поведение, счастье. С этого — критического настроя — началось развитие западной этики в нашем столетии.
И этот негативно-критический настрой оказался весьма конструктивным.
Мур положил начало целому особому периоду в существовании этики, длящегося затем без малого шесть десятилетий и получившему общее, хотя и не очень точное наименованиеметаэтики1. За этот период западной этикой была проделана огромная аналитическая работа. В русле метаэтики были подвергнуты строго логическому анализу все важнейшие этические понятия: добро, идеал, долг, правильное и неправильное и др. И хотя результаты анализа в целом ряде случаев были весьма неутешительными для этики — как, например, логический анализ понятия добра, предпринятый Муром в работе “Принципы этики” или анализ правильного в книге “Этика” (Ethics, London, 1912) — общий итог этого периода в развитии этики состоял в том, что проделанная работа, помимо множества отдельных ценных находок, как бы исчерпала до конца все возможности абстрактного формально-логического, лингвистического анализа, и по контрасту, убедительно доказала необходимость перехода на качественно новые пути исследования в этической теории. Критика метаэтики завершилась почти единодушной решимостью обратиться от сухой логики к жизненным фактам моральной, социальной и психологической эмпирики.
Следующий после метаэтики — второй период в развитии западной этики — ознаменовался именно таким поиском прорыва к реальной жизни — к социологии и психологии морали. Этот второй — назовем его дескриптивным (эмпирическим) — период продолжается не слишком долго, всего два-три десятилетия, и, как мы постарались показать в своих работах, хотя и принес, в свою очередь, некоторые полезные результаты, выполнил, главным образом, подготовительную работу. Пройденные в этот период английской и американской этикой пути — анализ эмпирических фактов из области социологии и психологии морали — убедительно показали, что и здесь этика еще не обретает своего главного предмета: конкретного человека, на протяжение всей своей жизни сталкивающегося с реальными моральными проблемами. Ведь и социология, и психология морали все-таки имеют дело все с тем же усредненным, а значит абстрактным индивидом, объектом моральных норм и их транслятором. Но и поиски, осуществленные в этот период, тоже подготовили “переход к человеку” в конкретных сферах его жизнедеятельности. Именно здесь человек уже становится главным предметом изучения, а науку начинают интересовать все детали, все конкретные подробности его поведения с моральной точки зрения, т.е. конкретные ситуации, где на карту ставятся не только деньги и благополучие людей, но часто и сама жизнь.
Третий период — новейший, текущий — в развитии западной этики, как мы полагаем, представляет собой период прикладной этики. И это отнюдь не случайно. Он является закономерным, органическим результатом процесса развития этики в течение всего двадцатого века, как бы его итогом. На наших глазах этика в течение текущего столетия прошла путь от сугубо теоретического, абстрактно-логического, методологического анализа в виде метаэтики — до, может быть, высшего своего достижения — до решения самых насущных, острых, больных, прямо и непосредственно касающихся живого человека проблем — до биоэтики и прикладной этики в целом. Такова одна из весьма правдоподобных гипотез относительно причин возникновения прикладной этики: тупик метаэтики был благополучно преодолен за счет возникновения сначала дескриптивной, а затем и прикладной этики. Допустимость такого предположения проистекает из того широко известного факта, что проблема связи этики с жизнью, связи теоретического и практического для этики всегда была поистине роковой. Но и в других науках проблема соотношения теории и практики именно в нашем веке вновь стала особенно острой. Она встала и перед теоретической физикой и перед математикой, и перед многими другими научными дисциплинами. Сам термин “прикладная” наука возник внутри естествознания, внутри фундаментальной науки. Из нее он был вскоре перенесен в гуманитарные науки, в том числе, в философию и этику. Важно подчеркнуть лишь, что для такого разграничения теоретической и прикладной разновидностей одной и той же науки необходимо только одно условие: чтобы теоретическая ее часть достаточно хорошо развилась и как бы достаточно далеко ушла от практики. В этике такую роль сыграла метаэтика, которая стала достопримечательностью начала века и которая провозгласила себя принципиально отличной от нормативной этики, а значит, от этики, обращенной к практике, к жизни.
§
Человек, «поглощенный» созерцанием объекта, «вспоминает о себе» только тогда, когда у него возникает Желание, например, желание поесть. Именно Желание (осознанное) какого-то сущего учреждает это сущее 0 качестве Я и раскрывает его в качестве такового, побуждая сказать: «Я…». И только Желание превращает Бытие, само себе раскрывшееся в познании (истинном), в некий «объект», который открылся некоему «субъекту» как субъекту, от объекта отличному и ему «противостоящему». Только в «своем» Желании и через посредство Желания, а лучше сказать в качестве такового, учреждается и раскрывается человек — раскрывается себе и другим — как некое Я, как Я, по сути своей отличное от Не-Я и радикально ему противопоставленное. Я (человеческое) — это Я Желания, то ли «какого-то», то ли Желания как такового.
Само, стало быть, бытие человеком, бытие, себя сознающее, скрывает в себе и необходимо предполагает Желание. Следовательно, человек мог появиться и существовать только в реальности биологической, в животной жизни. Однако если животное Желание — необходимое условие Самосознания, то это еще не достаточное его условие. Само по себе Желание может произвести на свет разве что Самоощущение.
В отличие от познания, которое требует покоя и удерживает человека от действий, Желание делает его бес-покойным и побуждает к действию. Рожденное Желанием действие нацелено на удовлетворение Желания, и достичь этой цели можно только посредством «отрицания», разрушения или, по меньшей мере, преобразования желаемого объекта: к примеру, чтобы утолить голод, надо уничтожить или, во всяком случае, преобразовать пищу. Так всякое действие оказывается «отрицающим». Оно никогда не оставляет того, на что направлено, таким, каково оно есть, и если не уничтожает полностью, то, по крайней мере, разрушает его форму. Никакая «Негация» не оставит налично-данного в прежнем виде. Но отрицающее действие не только разрушительно, ибо если рождаемое Желанием действие разрушает ради его удовлетворения какую-то объективную реальность, то на ее месте оно же созидает — в ходе и посредством /dans et par/ самого разрушения — реальность субъективную. Например, сущее, которое что-то поедает, творит и сохраняет свою действительность посредством отмены другой действительности, отличной от его собственной, посредством преобразования в ходе «ассимиляции» и «интериоризации» «чужой», «внешней», реальности в свою собственную. В общем, Я Желания — это пустота, наполняемая положительным реальным содержанием только посредством отрицающего действия, которое удовлетворяет Желание, разрушая, преобразуя, «ассимилируя» желаемое «не-Я». И образовавшееся благодаря отрицанию положительное содержание Я производно от положительного содержания, подвергшегося отрицанию не-Я. Таким образом, если Желание посягает на не-Я «природное», то Я тоже будет «природным». У Я, образовавшегося в результате удовлетворения Желания, будет та же природа, что и у вещей, на которые распространилось желание; это будет Я «вещественное», живущее животной жизнью, Я животное. И это природное Я, целиком зависимое от природного предмета, может раскрыться себе и другим только как Самоощущение. Ему никогда не достичь Самосознания.
Для того чтобы возникло Самосознание, нужен не природный предмет Желания, что-то, что превосходило бы налично- данное. Но нет ничего, что выходило бы за рамки налично- данного, кроме самого Желания. Ведь что такое Желание, если взять его как Желание, т. е. до удовлетворения, как не вдруг раскрывшееся ничто, зияние, пустота? Как открывшаяся пустота, как наличное отсутствие чего-то. Желание — это совсем не то, что желаемая вещь, совсем не то, что «что-то», существующее на манер наличной вещи, чего-то неподвижного, неизменно себе тождественного. Итак, только такое Желание, предмет которого — другое Желание, взятое как таковое, сотворяет посредством отрицающего и ассимилирующего действия, приносящего удовлетворение, некое Я, по существу иное, нежели «Я» животное. Это «питающееся» Желаниями Я само по себе должно быть не чем иным, как Желанием, которое творится в ходе и посредством /dans et par/ удовлетворения собственного Желания. И коль скоро Желание предполагает отрицающее воздействие на налично-данное, то бытием этого Я должно быть действование. Оно, стало быть, уже не будет, подобно «Я» животному, «самотождественностью» или равенством себе самому, это Я будет «Негацией». Иными словами, само бытие этого Я должно быть становлением, и универсальной его формой будет не пространство, но время. Пребывать для него будет значить: «не быть тем, что оно есть (как определенное наличное бытие, как природно сущее, как нечто, обладающее „врожденными» чертами), но быть (т. е. становиться) тем, что оно не есть». Таким образом, это Я оказывается произведением самого себя; оно будет (в будущем) тем, во что преобразилось посредством отрицания (в настоящем) того, чем было (в прошлом); причем отрицание это исходит из того, чем Я еще только будет. В самом своем бытии это Я есть направленное становление, осознанное развитие и произвольное движение вперед. Такое Я — это перешагивание через себя, переступание на- лично-данного, которое ему дано и которое есть оно само. Это Я — индивидуум (человеческий), свободный (по отношению ко всему налично-данному) и исторический (по отношению к себе самому). Это Я — и только оно — раскрывается себе и другим как Самосознание.
§
Парресия- этимологически «говорение всего», свобода говорения. У нее 2 противника: в области морали – лесть, в области техники, ремесла – риторика.
Льстец преувеличение, превосходство вышестоящего, тот, кто не даст вышестоящему позаботиться о себе как нужно (мешает человеку узнать себя). Лесть делает слабым и слепым того, к кому она обращена. Из-за ущербности отношения к себе, человек зависит от лести, поэтому парресия – противоречие лести. Задача парресии – избавить человека от зависимости, от речей другого.
Риторика – исключение убеждения. Не ставит вопрос о содержании и истинности сказанного. Техника, в основе которой обман, не будет действенной (исключение риторика. Она имеет отношение только к истине, какой ее знает говорящий) Главное в риторике исключение парресии (в ней есть только правда). Истину надо расскрыть в нужный момент, в той форме и условиях тому человеку и в той мере, в которой он может ее воспринять. Т. Е. правила парресии зависят от удобого случая. От него меняется характер.
Риторика ведет к выгоде говорящего, склоняет к этому других. Парресия добивается того, чтобы удалось установить с самим собой отношения, суверенитета, занять позцию мудрого, доброго, счастливого человека. Т. Е. практикующий не заинтересован в ней. Упражняться в ней от щедрости и великодушия. По-своему строению парресия противоположна риторике.
Парресия как искусство. Мы поощряем взаимную благосклонность учеников благодаря тому, что они говорили свободного (функция парресии объяснить вертикальный и горизонтальный строй).
30) Любовь как нравственная ценность (Анализ произведений Платона «Пир», Э.Фромма «Искусство любить», Бадью. А, Салецл Р. и др)
Идея поляризации и одновременно притяжения мужского и женского начал наиболее сильно выражена в мифе, пересказанном Платоном в диалоге «Пир»: когда-то мужчина и женщина были единым существом — андроги-ном. Потом они были разделены на половинки, и теперь каждая из половинок обречена искать другую, чтобы вновь образовать с ней единое целое.
Но половая любовь не сводится к сексуально-эротическому влечению. Человеку в любви необходимо не просто существо другого пола, а такое существо, которое обладает для него эстетической привлекательностью, интеллектуальной и эмоционально-психологической ценностью, общностью нравственных представлений. Если одного из этих компонентов нет, любовь «не состоится» или возникнет ее иллюзия, которая неизбежно разрушится, погибнет. Без гармонии Я и не-Я, без духовной близости, совместимости характеров подлинная любовь между людьми невозможна.
Современные представления о любви базируются на том, что любая теория любви должна начинаться с вопроса о сущности человека и его существования. А этот вопрос, в свою очередь, связан с другим: как преодолеть свою отделенность, как выйти за пределы собственной индивидуальной жизни и обрести единение с другим. Этот вопрос был актуален уже для примитивного человека, жившего в пещерах; столь же актуальным он остается для современного человека, потому что той же остается его основа: человеческая ситуация, условия человеческого существования. Именно в этой «человеческой ситуации», в самой сущности человека — в его стремлении к единению усматривает истоки любви Э. Фромм.
Дело в том, что переживание отделенности рождает тревогу, считает он. Быть отделенным — значит быть отторгнутым, беспомощным, неспособным владеть миром, не иметь возможности реализовать свои человеческие силы. Однако единение, достигаемое в совместной работе, — не межличностно; единение, достигаемое в сексуальном экстазе, — преходяще; единение, достигаемое в приспособлении к другому, — только псевдоединение.
Полный «ответ на проблему человеческого существования» содержится в достижении совершенно особого, уникального вида единения — слияния с другим человеком при условии сохранения собственной индивидуальности. Именно такой вид межличностного единения достигается в любви, которая объединяет человека с другими, помогая ему преодолеть чувство изоляции и одиночества. При этом любовь «позволяет человеку оставаться самим собой, сохранять свою целостность. В любви имеет место парадокс: два существа становятся одним и остаются при этом двумя» (Э. Фромм).
Любовь — это не счастливая случайность или мимолетный эпизод, а искусство, требующее от человека самосовершенствования, самоотверженности, готовности к поступку и самопожертвованию. Именно об этом говорит Эрих Фромм в своей книге «Искусство любви». «Любовь — не сентиментальное чувство, испытать которое может всякий человек независимо от уровня достигнутой им зрелости. Все попытки любви обречены на неудачу, если человек не стремится более активно развивать свою личность в целом, чтобы достичь продуктивной ориентации; удовлетворение в любви не может быть достигнуто без способности любить своего ближнего, без истинной человечности, отваги, веры и дисциплины».
В своей работе Фромм выделяет пять элементов, присущих любви. Это давание, забота, ответственность, уважение и знание.
«Любить, — говорит он, — это главным образом отдавание, а не получание. Давание — это высочайшее проявление силы… Я ощущаю себя изобильным, тратящим, живым, счастливым. Отдавание более радостно, чем получание». Любовь для Фромма не просто чувство, это прежде всего способность отдавать другому силы своей души. Но что значит отдавать? Хотя ответ на этот вопрос кажется простым, он полон двусмысленности и запутанности.
Наиболее широко распространено неверное мнение, что давать — это значит отказываться от чего-то, становиться лишенным чего-то, чем-то жертвовать. Именно так воспринимается акт давания человеком, стоящим на позициях авторитарной этики и ориентированным на присвоение. Он готов давать только в обмен на что-либо; давать же, ничего не получая взамен, для него значит быть обманутым.
Что же один человек может дать другому? Он дает себя, самое драгоценное из того, что имеет, он дает свою жизнь. Но это не обязательно должно означать, что он жертвует свою жизнь другому. Он дает ему свою радость, свой интерес, свое понимание, свое знание, свой юмор, свою печаль — все переживания и все проявления того, что есть в нем живого. Этим даванием своей жизни он обогащает другого человека, увеличивает его чувство жизнеспособности. Причем он дает не для того, чтобы брать взамен: давание само по себе может доставлять чувство наслаждения. Вместе с тем, давая, он вызывает в другом человеке что-то такое, что возвращается к нему обратно: побуждает другого человека тоже стать дающим, и они оба разделяют радость, которую сообща принесли в жизнь. В случае любви — это сила, рождающая ответную любовь. Поэтому истинная любовь — это феномен избытка. Ее предпосылкой служит сила человека, способного отдавать.
Любовь — это активность, действие, способ самореализации. Активный характер любви можно обосновать как раз посредством утверждения, что любить — значит прежде всего давать, а не брать.
Вместе с тем любовь — это утверждение и плодотворность. Она созидательна по существу, она противостоит разрушению, конфликтности, вражде. Причем любовь — это форма продуктивной деятельности. Она предполагает проявление интереса и заботы к объекту любви, душевный отклик, изъявление многообразных чувств по отношению к нему (эмоциональное «резонирование»). То, что любовь означает заботу, наиболее очевидно на примере любви матери к своему ребенку. Никакие ее заверения не убедят нас в том, что она действительно любит, если она не заботится о ребенке, пренебрегает его кормлением, не купает его, не старается полностью его обиходить; но когда мы видим ее заботу о ребенке, мы верим в ее любовь. Это относится и к любви к животным и цветам. «Любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии того, что мы любим» О. Фромм).
Такой аспект любви, как ответственность, есть ответ на выраженные или невыраженные потребности человеческого существа. Быть «ответственным» — значит быть в состоянии и готовности «отвечать». Любящий человек чувствует ответственность за своих ближних, как он чувствует ответственность за самого себя. В любви ответственность касается, прежде всего, психических потребностей другого человека.
Ответственность могла бы легко вырождаться в желание превосходства и господства, если бы в любви не было уважения. «Уважение — это не страх и благоговение, это способность видеть человека таким, каков он есть, осознавать его уникальную индивидуальность».
Уважение предполагает отсутствие эксплуатации. «Я хочу, чтобы любимый мною человек рос и развивался ради себя самого, своим собственным путем, а не для того, чтобы служить мне. Если я люблю другого человека, я чувствую единство с ним, но с таким, каков он есть, а не с таким, каким он необходим мне в качестве средства для моих целей».
«Уважать человека невозможно, не зная его: забота и ответственность были бы слепы, если бы их не направляло знание». Фромм рассматривал любовь как один из путей познания «тайны человека», а знание — как аспект любви, являющийся инструментом познания, позволяющим проникнуть в самую суть.
Таким образом, любовь — это активная заинтересованность в жизни того, что или кого мы любим. Но одновременно любовь — это и процесс самообновления и самообогащения. Подлинная любовь усиливает ощущение полноты жизни, раздвигает границы индивидуального существования. Гегель писал: «Истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом Я и, однако, в этом же исчезновении и забвении впервые обрести самого себя». Поэтому любовь недостижима для тех, кто не стремится развивать свою личность, не стремится достичь продуктивной ориентации. Радость и счастье индивидуально нацеленной любви невозможны без способности сострадать ближнему, без истинной человечности и доброты.
По Фромму, существует несколько видов любви: братская, материнская, эротическая, любовь к себе и любовь к Богу.
Под братской любовью Фромм понимает любовь между равными, которая основывается на чувстве единства. «Любовь начинает проявляться, только когда мы любим тех, кого не можем использовать в своих целях», — пишет Фромм. Материнская любовь, по Фромму, — это любовь к беспомощному существу. Эротическая любовь — это то, что мы наиболее часто подразумеваем под словом «любовь», половая любовь мужчины и женщины. О любви к себе Э.Фромм говорит как о чувстве, не испытывая которого невозможно любить кого-то другого. Любовь к Богу Фромм трактует как основу всех видов любви, как прародительницу родительской и эротической любви. Он говорит о ее сложной структуре и взаимосвязях со всеми гранями человеческого сознания. Но в этом, наверное, с ним можно поспорить, так как существуют люди, не ощущающие потребности в любви к Богу, однако они становятся замечательными родителями, любящими супругами, великолепными друзьями. Возможно, потому, что они исповедуют другую религию — религию Любви.
Абсолютно полная, всеохватывающая любовь органически включает в себя все виды любви. Но среди них наиболее соблазнительным и, как это ни парадоксально, наиболее труднодоступным является тот вид, который мы называем {эротической любовью} — любовь двух людей друг к другу, любовь, жаждущая полного слияния, единства с любимым человеком. Она по своей природе исключительна, и поэтому существует не только в единстве с остальными видами любви, не только как высшая моральная ценность, но и как реальное земное отношение и влечение, как относительно самостоятельное стремление и потребность. И при этом сама она столь разнообразна и непредсказуема, что нуждается в отдельном анализе.
31) «Естественная» морали Ф. Ницше. Анализ произведений Ницше «К генеологии морали», 1 тракта, «По ту сторону добра и зла», 3, 5 главы.
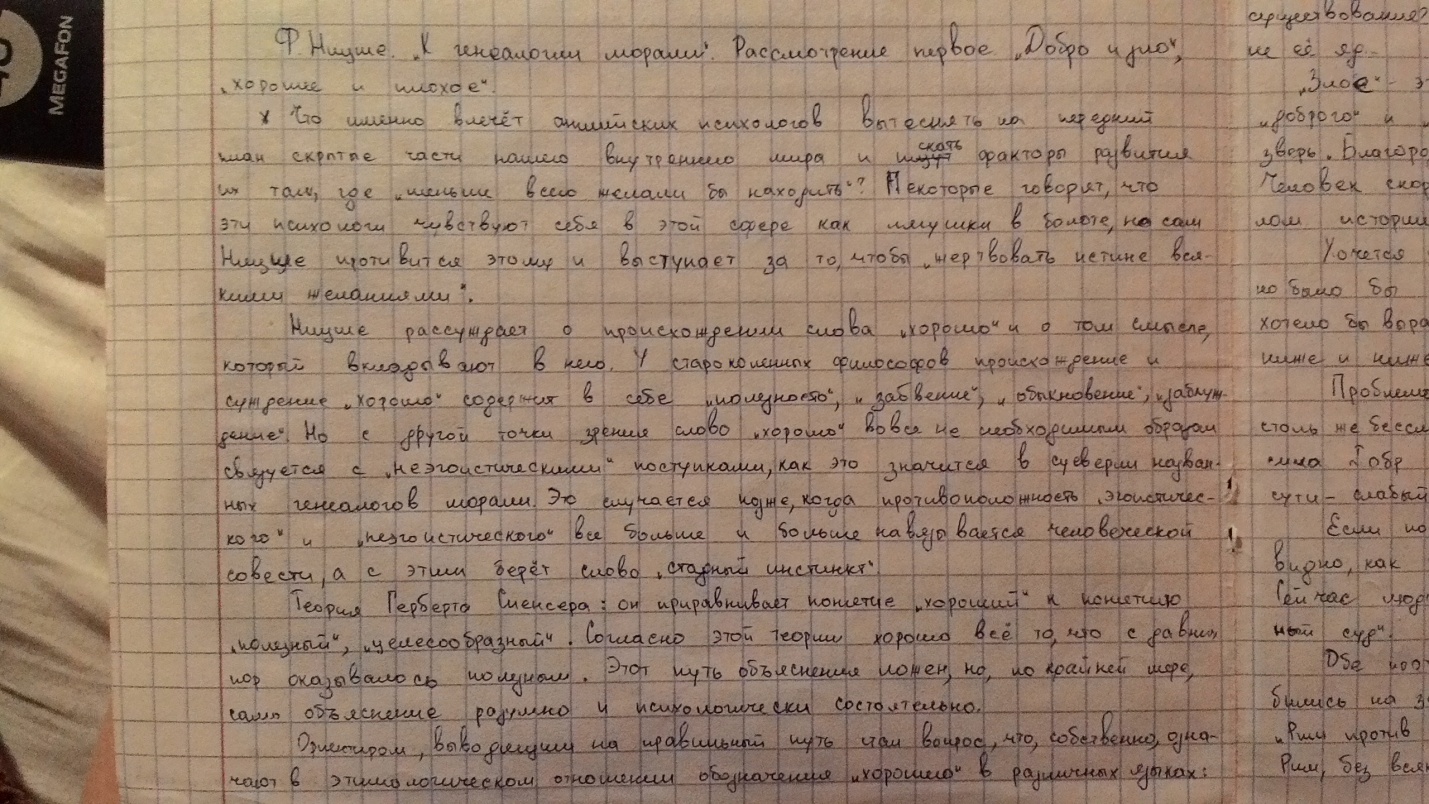
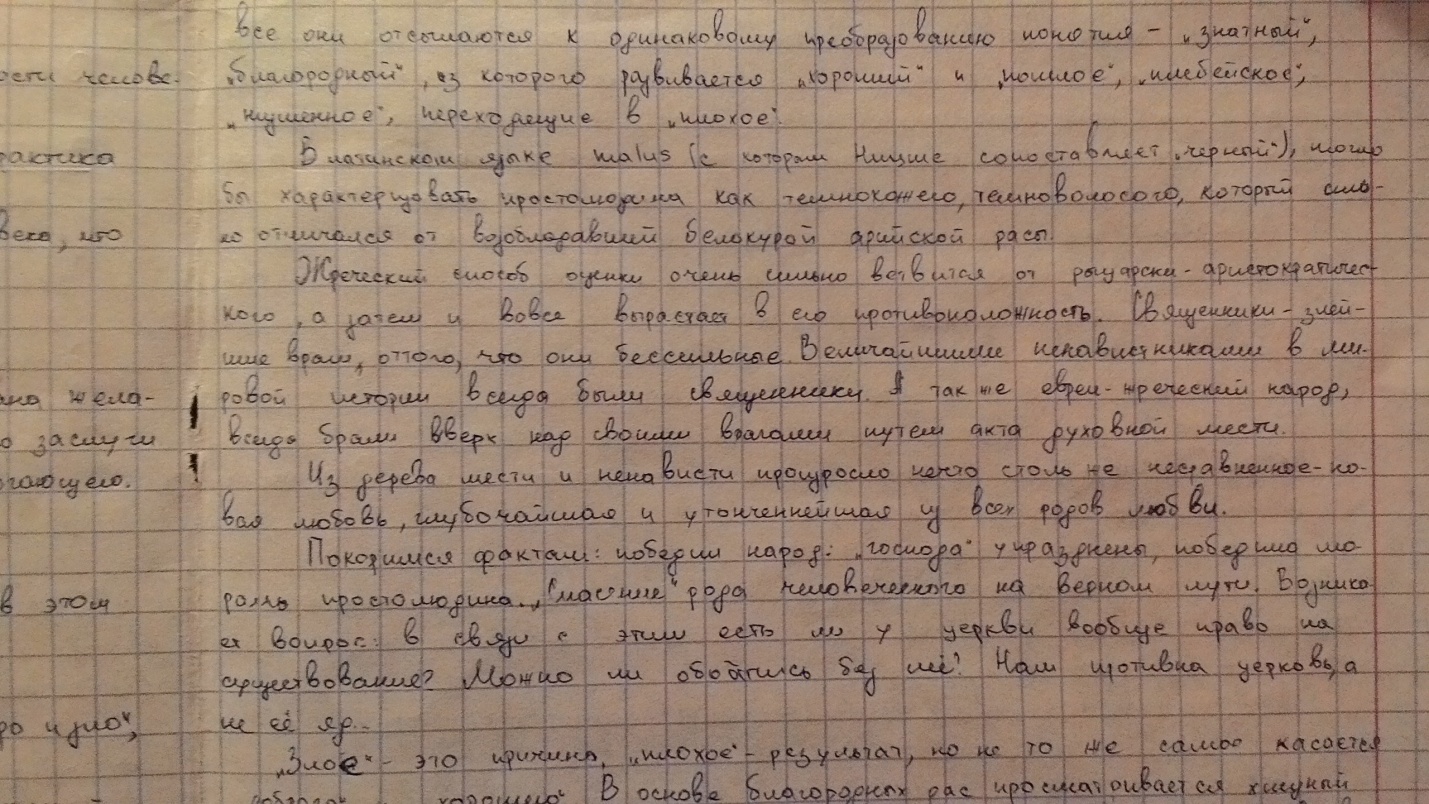
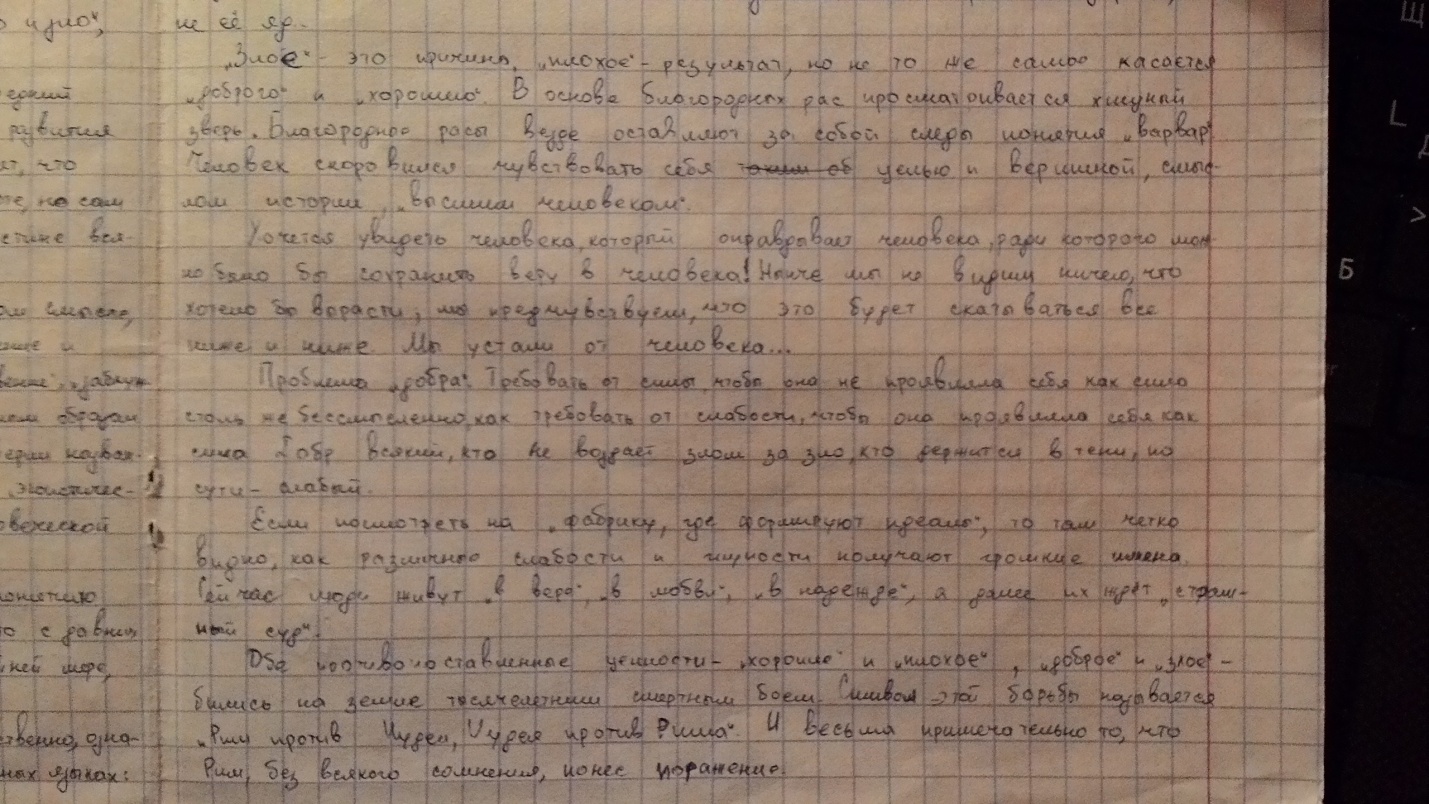
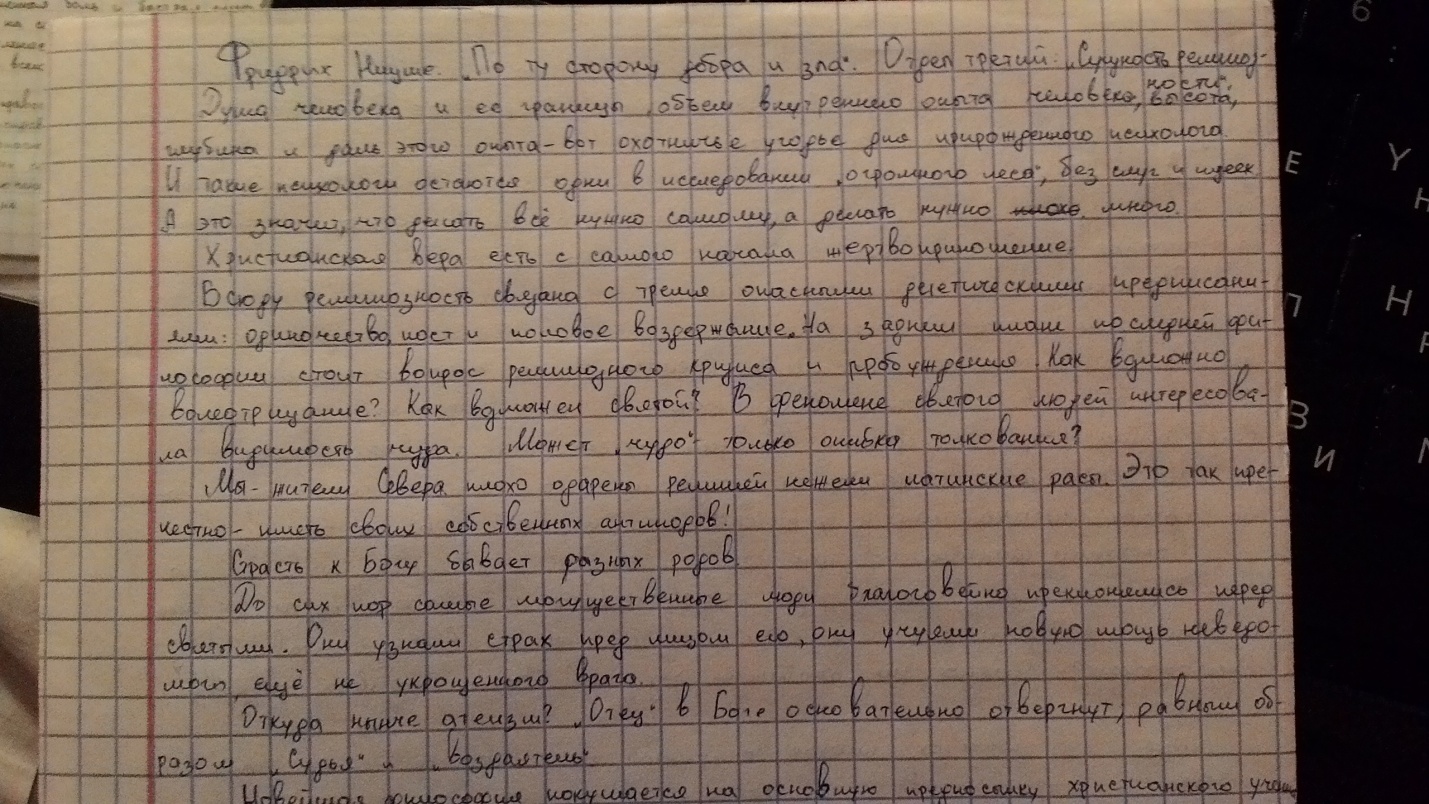
§
Ф. Ницше Рассмотрение второе «Вина», «Нечистая совесть» и все, что сродни им.
Забывчивость – хранительница порядка, покоя. Без забывчивости не было бы счастья, т.к. она помогает держаться в стороне от шума и борьбы, а также оставляет место для других функций. Память создана для упразднения забывчивости в некоторых случаях (об обещаниях). Невозможно отделаться от данного обещания, из-за чего возникает волнение. Это предполагает, что человек должен научиться распоряжаться будущим. У природы стоит задача сделать человека равным среди равных, т.е. над «нравственностью нравов». В конце процесса перед нами предстает человек собственной независимой воли, смеющий обещать. Господство над собой, а, следовательно, господство над обстоятельствами, природой. Свободный человек сам назначает себе меру своего уважения и презрения к другим. Власть над другими и собой порождает в нем инстинкт – совесть. Наказание несет не только виновный, а всякий принесший ущерб, несмотря на то, что всякий ущерб может быть возмещен. В доказательство уплаты долга должник обещает в качестве залога в случае неуплаты, что-то ему принадлежащее (себя, жену, тело умершего). Таким образом уплачивая долг чувством удовлетворенности, возможности управлять, власти. Страдание может быть рассмотрено в качестве уплаты долга в той мере, в которой это доставляет удовольствие тому, кому ты должен. Таким образом злость, жестокость – это что-то, чему совесть говорит да. Когда жестокость перестала быть явной жизнь стала скучнее. Всякая вещь имеет цену, все может быть оплачено. Справедливость предстает доброй волей людей поладить друг с другом. Появляются общины, в общине свои правила нарушивший их считается «отступником», нарушителем договора. Он подвергается гневу взаимодавца, гневу общины. С приобретением общиной большей власти она перестает обращать внимание на отдельно взятых отступников, а идет на компромисс с гневом. Появляется понятие «милость». Справедливость – дальнейшее чувство обиды. Если человек справедлив даже с обидевшим его, то он верх совершенства, месть не видит ничего кроме точи зрения потерпевшего. Наказание разделяется на: навык и текучее, смысл, цель, связанное с исполнением. Наказание как праздник (насилие, надругательство над врагом). Наказание как объявление войны. Наказание порождает в виновном чувство вины, в нем ищут душевной реакции («нечистой совести»). Дело имелось не с «виновным», а с защитником зла. Виновный, осознающий свою вину поддается наказанию. Наказание приручает человека, но не делает его лучше. Вражда, жестокость, радость о преследование – причина порождения «нечистой совести». У художников присутствует ужасный эгоизм, который не дает им видеть, что есть вина, есть ответственность. Мастерить «нечистую совесть» и строить негативные идеалы – это и есть инстинкты свободы. Существует чувств долга по отношению к Божеству, прородителю. Полная победа атеизма смогла бы освободить от чувства задолженности своему началу Бог сам жертвует собой во искупление вины человека. Человек толкует инстинкты (вражда, восстание, бунт) в вину перед Богом. Цель человека перед лицом идеала быть недостойным. В конце всего придет человек – искупитель, человек великой любви и презрения.
33) «Наши добродетели», «что аристократично»? Этический идеал Ницше, Анализ произведений Ницше «По ту сторону добра и зла», 2,7,9 главы.
(Не нашла, сорян ) :С
Символ философии Ницше. По его словам, сверхчеловек — это то, чего нужно достичь, человек же — это мост между животным и сверхчеловеком. Сверхчеловек должен смотреть на человека так же, как и человек смотрит на животное, то есть с пониманием своего превосходства и ответственностью за него.
34) Совесть как зов онтологии фактичности М.Хайдеггера (Бытие и время, параграфы 54-60)
БЫТИЁ И ВРЕМЯ основополагающая работа М. Хайдеггера, вышедшая в 1927 и с тех пор выдержавшая более двадцатиизданий. Вся последующая проблематика хайдеггеровской философии явно содержится в этом труде.Центральный вопрос книги — вопрос о смысле бытия. Интерес к проблеме бытия был, по Хайдеггеру,утрачен в ходе развития новоевропейской философии, наступила эпоха «забвения» бытия со всемивытекающими отсюда последствиями: господством массовой культуры и технической цивилизации,торжеством метафизики, искусственно разорвавшей мир на субъект и объект, утратой навыков бытийногомышления, выхолащиванием языка. Необходимо вернуться к бытию и создать новую, фундаментальнуюонтологию. Последняя не стремится выработать особое, всеобъемлющее понятие бытия, но намерена датьанализ основополагающих структур вопрошающей о мире экзистенции. Фундаментальную онтологию, изкоторой могут возникать все др. онтологии, нужно искать в экзистенциальной аналитике человеческогосуществования, причем проводить адекватный анализ человеческого бытия можно только с помощьюфеноменологического метода, в то время как методы антропологии, психологии и биологии не ухватываютбытийной проблематики экзистенции.
В «Б. и в.» не говорится о человеке в традиционных формах сознания, субъекта, Я. Все это заменяет ттермин («вот-бытие»,«здесь-бытие»,«присутствие»), и человек рассматривается под новым углом зрения,как отмеченный собственным отношением к бытию. Но что такое бытие, остается неизвестным. Мы видимтолько разные области бытийствования. Камень есть, но не имеет отношения с самим собой. Человек же нетолько есть, но и развивает связь-отношение с самим собой, с себе подобными и со всем остальным миром.Он «имеет быть», его бытие задано ему. Dasein есть бытийствующее, которому его бытие преподнесено какзадача. Dasein понимается исходя из своей экзистенции, из своей возможности быть самим собой или небыть самим собой. Либо человек выбирает самого себя и свой самобытный образ жизни, либо он живет внесобственном, в безличном, в анонимном существовании.
Вводя далее категорию «бытие-в-мире», Хайдеггер разрубает гордиев узел старой проблемы («как субъектможет выступить из своей внутренней сферы и достичь объекта «вовне»?»), исходя из того, что Dasein какбытие-в-мире уже находится вовне — в доверительно близком мире. Познание не является тем, что впервыесоздает связь субъекта с миром, что возникает из воздействия мира на субъект, или наоборот. Познание естьфундаментально заложенный в бытии-в-мире модус Dasein.
Хайдеггер исследует основные онтологические характеристики Dasein: расположение, понимание и речь.Напр., расположение психологически понимается как просто настроение. Но можно увидеть этот феномен икак фундаментальный экзистенциал. Настроения могут портиться или меняться. Но это говорит лишь о том,что присутствие всегда уже настроено, эта настроенность предшествует встрече с другими, с окружающиммиром. Это не внутреннее психологическое состояние, которое выплескивается наружу и отсвечивает навещах и лицах. Настроение открывает бытие-в-мире как целое и делает возможным «настроенность на…».Человек всегда «задет», «затронут» миром, мир для него всегда уже «открыт» в этом смысле. Он может емуугрожать, волновать его, радовать. Все чувства и вся психология возникают потом, из этого способа бытийнойоткрытости. Также и «понимание» в обыденном смысле есть лишь экзистенциальное производное отпервичного понимания как способа существования бытия-в-мире. В психологическом смысле «понимать» —значит уметь справляться с ч.-л., быть на высоте. В онтологическом — это умение быть, возможность быть.Онтологически возможность более фундаментальна, чем действительность. Dasein есть возможностьосвобожденности для себя самого своего умения быть, быть в мире. Dasein не есть нечто наличное, что впридачу еще что-то может, чем-то способно быть, но оно первично есть бытие-возможность, оно каждый разто, чем оно может быть. Эта «могущая» экзистенция открывает и весь мир в его возможности. Всеоткрывается для понимания в своей служебности, применимости, полезности, негодности. Понимание всегдастремится проникнуть в возможности, потому что оно само по себе имеет экзистенциальную структуру,которую можно назвать планом, наброском. В этом смысле конституируемое экзистенциалом Dasein всегдабольше того, что оно фактически есть. Поскольку оно есть то, чем оно становится или не становится, ономожет, понимая, сказать себе: «Стань тем, что ты есть!» Понимание экзистенции есть всегда пониманиемира.
Понимание как набросок экзистенциально составляет то, что у Хайдеггера называется «смотрениемприсутствия». Смотрением как озабоченностью, оглядкой, заботливостью, как смотрением за бытием кактаковым. «Смотреть» не означает только воспринимать телесными глазами. Для экзистенциальногосмотрения действительно только своеобразие видения, которое делает неприкрытым встречающееся сущее.Не только всякое смотрение есть в своем истоке понимание, но также и «созерцание», «мышление»производны от понимания. Феноменологическое усмотрение сущности также основано на экзистенциальномпонимании.
Всякое смотрение открывает мир, и в этом плане он всегда истолковывается. И, наконец, речь — этоартикуляция понятности, она лежит в основании истолкования-изложения. Понятность бытия в миревыговаривает себя в качестве речи. Целокупность значений понятливости приходит к слову. Речь естьзначимое членение понятности бытия-в-мире. Языкознание должно быть положено на онтологическиизначальный фундамент. Речь — экзистенциально-онтологический фундамент языка.
Анализ Dasein должен выполнить двойную задачу: изложить конституивные моменты бытия-в-мире и указатьединство этих моментов, их взаимосвязь, т.е. исследовать проблему временности. Это единствохарактеризуется тремя феноменами: экзистенциальность (здесь-бытие всегда уже при своей способностибыть); фактичность (Dasein всегда уже определено, согласовано с тем, куда оно заброшено, что от него независит и что оно обязано принять); падшесть (оно понимает себя исходя из того, чем оно не является, онозатеряно в известном ему бытийствующем). Все три характеристики собираются воедино в заботе.Интерпретация бытия Dasein должна стать изначальным фундаментом выработки основополагающегоонтологического вопроса, она должна осветить бытие Dasein в его возможной собственности и целостности.Dasein, пока оно есть, всегда недостает еще чего-то, чем оно способно быть и будет. Недостает конца,смерти. В забегании вперед, в крайнюю возможность (бытие к смерти) Dasein возвращается к собственномубылому. Оно есть свое былое. Оно может быть былым, поскольку оно есть будущее. Не прошедшее естьпервичное для Dasein, но поступательное забегание вперед в еще не бытийствовавшее, но уже послушнопринадлежащее мне — в мою смерть. Только потому, что Dasein может забегать вперед, т.е. быть будущим,оно способно возвращаться в былое и свое бывшее не терять, а удерживать. Только перед лицом смертичеловек начинает понимать и ценить прошлое.
Dasein, будучи временным, не оставляет свое былое позади, но им же и является сейчас, находится внастоящем, в фактичности. Этот феномен (бывшее-настоящее) называется временностью, а временностьобнажается как смысл заботы. Падшесть же есть затерянность (потерянность) себя в настоящем.
К временности Dasein необходимо принадлежит историчность. Научно-теоретический способ трактовкиистории ориентируется не только на гносеологическое прояснение исторического постижения или логикуформирования концепций историографического описания (Г. Риккерт), но также и на «предметную сторону».При такой постановке вопроса история доступна лишь как объект определенной науки. Первофеноменистории отодвигается в сторону. Сведения о том, как история способна стать предметом историографии,можно извлечь только из способа бытия всего исторического, из историчности и ее укорененности вовременности. Анализ историчности Dasein должен, по Хайдеггеру, показать, что сущее не потому временно,что выступает в истории, но наоборот, оно экзистирует и способно экзистировать лишь потому, что восновании своего бытия оно временно. Первично исторично Dasein, вторично исторично внутримировоевстречное, не только подручное средство, но и миро-окружающая природа как историческая почва. Историяне взаимосвязь движения изменяющихся субъектов, не свободнопарящая последовательность переживаний«субъектов». Историчен не безмирный субъект, исторично сущее, которое экзистирует как бытие-в-мире.Событие истории есть событие бытия-в-мире. С экзистенцией исторического бытия-в-мире подручное иналичное уже каждый раз втянуты в историю мира.
«Б. и в.» по глубине и радикальности переосмысления основных проблем философии, по значимости иоригинальности раскрытия онтологического, бытийного уровня человека, по преодолению господствующих вфилософии эмпирических, психологических, антропологических методов исследования, по своему влияниюна европейскую филос. традицию является одной из самых радикально-революционных книг 20 в.
§
Немецкая еврейка, чьими учителями были Хайдеггер, Гуссерль и Ясперс, вынужденная бежать во Францию, а затем и в США, после оккупации Европы нацистами, никогда не отдавала на откуп философской «системе» или «истории» ценность индивидуальной человеческой жизни. Отсюда и некоторые трудности в оценке её наследия: свободное суждение Арендт всегда предпочитала фиксированной и статичной позиции, а её положение одиночки гарантировало отсутствие пристрастия к любому сообществу. Стоит напомнить, что изрядная доля критики в адрес её «Банальности зла» (текста, составленного из репортажей Арендт для журнала The New Yorker из иерусалимского суда, где проходил процесс над бывшим нацистским функционером Адольфом Эйхманом) исходила как раз от еврейского сообщества – Арендт обвинила глав еврейских общин в сотрудничестве с нацистами. Без её текстов сегодня трудно себе представить политическую философию ХХ века. Арендт была одной из немногих, кто последовательно и методично проблематизировал самые «неудобные» вопросы современности, при этом оставаясь вне рамок идеологических клише. Её идеалом политического был античный полис, а мерой отношения к человеку – идущее от христианской средневековой философии чувство ценности и уникальности каждого.
«Ответственность и суждение» – сборник, составленный из выступлений, лекций и эссе последнего десятилетия жизни Арендт. Любой из этих текстов – живой отклик на актуальные события: от попытки найти новые основания морали в мире, пережившем вследствие нацизма глубокий нравственный кризис («Некоторые вопросы моральной философии»; «Мышление и соображения морали») и попытке очертить сферу личной ответственности, отделив её от ответственности коллективной («Личная ответственность при диктатуре», «Коллективная ответственность»), до анализа политики десегрегации в американских школах («Размышления по поводу событий в Литл-Роке»). Большая часть текстов была предназначена для публичных выступлений, что дает возможность представить Арендт в качестве преподавателя или публичной фигуры. Последней роли, стоит сказать, она отчаянно пыталась сопротивляться. Сборник открывает речь, произнесенная Арендт по поводу вручения ей премии Зоннинга, в которой та неоднократно подчеркивает «не публичность», «незаметность» философской работы, которая состоит в «молчаливом диалоге с самим собой», в мышлении, не имеющем никаких внешних проявлений. Эта тема мышления как способа жизни (bios theoretikos) или как простой склонности – будет одной из ключевых в сборнике.
Внимание к теме суждения у Арендт возникает в рамках полемики, которую вызвала ее «Банальность зла» в 60-е годы. Основной упрек звучал следующим образом: «Не имеет права рассуждать тот, кто там не был». Арендт считала подобную позицию не только абсурдной (как тогда возможна работа историка или судьи?), но и опасной: атрофия способности суждения – симптом «обесценивания всех ценностей», европейского нигилизма, диагностированного Ницше, симптом того, «что никто не действует свободно и что, следовательно, никто не несет ответственности за свои поступки». Более того – в мире, где целые «народы» способны в течение короткого периода времени менять свои моральные ориентиры на противоположные и обратно с необъяснимой легкостью, суждение остается единственным мерилом и гарантом нравственного поступка индивида. Безусловным авторитетом в теории суждения для Арендт выступает Кант. Согласно её предположению, именно в «Критике способности суждения», а вовсе не в работах по этике, немецкий философ сформулировал основы своей политической философии. Здесь очевиден значительный сдвиг в направлении мысли Арендт: от vita activa, деятельной жизни к суждению, выносимому зрителем, а не участником.
Еще один ключевой вопрос, которым задается Арендт, — это вопрос об ответственности. Эта тема во многом спровоцирована попытками возложить историческую вину за нацизм на «всю Германию». Для Арендт такая модель всеобщей вины — инструмент обеления тех, кто действительно был виновен в преступлениях режима. «Там, где виноваты все, не виноват никто». Можем ли мы чувствовать вину за то, что не совершали? В чем не принимали личного участия? Согласно мысли Арендт, «коллективная ответственность» — не более чем иллюзия или метафора, используемая в политическом пространстве, и приводящая к «фальшивой сентиментальности, не позволяющей разглядеть настоящие проблемы». Вина всегда персонифицирует и в юридическом, и в моральном смысле, всегда носит личный характер. Здесь, пожалуй, будет уместно привести фразу Делеза, так или иначе перекликающуюся с мыслью Арендт: «Всякий раз, когда мы слышим: никто не может отрицать… весь мир признает, что… мы знаем, что следом должна идти ложь или какой-нибудь рекламный слоган».
Арендт, как человек, который говорит о том, что для её поколения нравственные истины были «самоочевидными» не перестает испытывать оторопь перед чудовищной мутацией морали в ХХ веке (само слово мораль Арендт интерпретирует через латинское mores, указывающее всего лишь на застольные манеры). Почему, несмотря на «две с половиной тысячи лет мысли, художественной, философской и религиозной» ХХ век ознаменовался чудовищными преступлениями? И почему, несмотря ни на что, оставались люди, которые сознательно выбирали «неучастие» или даже открытое сопротивление преступным режимам? И если нравственные установки и мораль с легкостью меняются на противоположные, что может оставаться гарантом элементарной человечности? Для Арендт таким горантом выступает мышление. Мышление не связанное с какой-либо специфической сферой деятельности, философской или научной. Мышление, которое не зависит от уровня образования («…давайте вспомним о тех убийцах Третьего рейха, кто не только был образцовым семьянином, но и любил проводить досуг, читая Гёльдерлина и слушая Баха, тем самым доказывая, что из интеллектуалов преступников сделать так же легко, как из всех остальных»). Мышление, скорее в старом определении Платона — как способность или привычка вести «диалог с самим собой» – такая способность, согласно Арендт, — отличительная черта тех, кто просто не мог принимать участие в преступлениях, поскольку она ведёт к «раздвоению Я»: уединившись, начав мыслить, убивший окажется в компании убийцы, а предавший — в компании предателя. В силу этого Арендт остается верна нравственной максиме Сократа: «Лучше несправедливо страдать, чем несправедливо поступать».
§
Ханна Арендт остается у нас все еще непрочитанной и недочитанной. Хотя когда составитель книги Джером Кон утверждает, что «любому, кто работает с текстами Арендт, известно, насколько редко, особенно сегодня, удается найти издателя, небезразличного к ее мысли», он явно не имеет в виду Россию. Немецкого мыслителя издают здесь с редким энтузиазмом — иногда слишком опасным для качества перевода. Но сборник статей «Ответственность и суждение» — пример хорошо сделанной работы.
Сборник, включающий восемь англоязычных текстов, впервые собранных под одной обложкой в американском издании 2003 года, предлагает массу материала к интеллектуальной биографии Арендт. Так, в речи по случаю присуждения ей датской премии Зоннинга (1975), вручаемой раз в два года за выдающийся вклад в европейскую культуру, она останавливается на особой роли Дании в спасении евреев в годы «окончательного решения» нацистами еврейского вопроса. «Несмотря на отсутствие антисемитизма, евреям-иностранцам датчане рады не были», — говорит Арендт, но при этом они выше всего остального ценили право на убежище. В отличие от других стран, «которым удалось не мытьем, так катаньем спасти большую часть своих евреев», датчане сделали это открыто. Они вступили в публичный спор с немецкими властями — чувствовавшими себя в Дании почти как дома — и заявили, что беженцы-евреи не являются больше гражданами Германии и, следовательно, нет никаких оснований требовать их выдачи (вот если бы так же повели себя в 1945-м англичане, согласившиеся выдать СССР давно осевших в Европе казаков!).
В книге эта речь помещена под названием «Пролог», и это не случайно. Арендт касается в ней проблемы «личной ответственности при диктатуре» (так названа первая статья сборника — собственно, тоже речь, транслировавшаяся по радио в Англии и США, опубликованная в 1964 году в сокращенном виде и лишь в сборнике публикуемая полностью). Вопрос об ответственности — один из ключевых в отношениях человека с историей, норовящей подменить ее как политической целесообразностью, так и понятием коллективной вины, каковое не только размывает личную ответственность, но и поневоле обеляет всех, кто действительно совершал преступления.
В этом тексте Арендт отвечает некоторым из многочисленных критиков книги «Эйхман в Иерусалиме». И годы спустя после ее публикации авторская позиция продолжала раздражать многих. Так, в 2000 году, когда в Тель-Авиве наконец-то вышло первое израильское издание «Эйхмана в Иерусалиме» (после смерти автора прошла уже четверть века), полемика вспыхнула с новой силой. Арендт вменяли в вину многое, в том числе антисионизм. Но сам тип ее мышления исключал принадлежность к каким-либо «измам», она не была ни консерватором, ни либералом. Комментируя статью «Размышления по поводу событий в Литл-Роке», Кон пишет, что она «ударила в больную точку либерализма; этот эффект она продолжает оказывать и поныне».
Арендт рассматривает случай сегрегации в школах и последующую реакцию власти. Верховный суд подтвердил принципы десегрегации — философ оценил этот жест как забвение права на частную жизнь: правительство «не вправе вмешиваться в принятые в обществе дискриминационные порядки и отнимать у людей их предрассудки», оно должно «защищать право людей делать в стенах своего дома то, что они хотят», но при этом его правом и обязанностью остается препятствовать законодательному закреплению этих предрассудков.
Слова Арендт выглядят вызовом основным демократическим ценностям и идее равноправия, но на деле они говорят о тонком понимании того, откуда растут диктаторские тенденции. Для пропаганды идей есть другие пространства, закон же должен защищать право, а не идею.
Судебная практика — один из важнейших сюжетов эссеистики Арендт. В статье «Освенцим на суде» она разбирает казус немецкой Фемиды. Два франкфуртских процесса, 1963 и 1965 годов, показали, что преступники ни в чем не раскаивались, сам процесс порой походил на фарс, а общественное мнение, очевидно не совпадавшее с позицией СМИ и государства в лице обвинителя, было на стороне бывших эсэсовцев, служивших в Освенциме. Осужден был лишь тот единственный врач, кто помогал в концлагере узникам, а после войны дал себе труд задуматься над произошедшим. Остальные вины не признали и подали апелляции, что фактически означало отмену приговора, вынесенного по своду законов 1871 года.
Все они были «мелкой рыбешкой», самое высокое звание среди подсудимых — капитан (гауптштурмфюрер), в то время как свидетелями вызывали их начальников из РСХА, полковников и генералов. В итоге суд тщательно документирует садизм каждого обвиняемого в отдельности. Он никому не предъявляет обвинений в массовых убийствах и не стоит на точке зрения, согласно которой подсудимые в этом процессе считаются виновными до тех пор, пока не доказали обратное.
Впрочем, работа по собиранию фактов не выглядит бессмысленной в свете сегодняшних попыток отрицать само существование концлагерей. Статью «“Наместник”: вина — в безмолвии?», посвященную знаменитой пьесе Ральфа Хоххута о молчавшем во времена нацизма папе Пие XII, Арендт завершает цитатой. Австрийский историк и публицист Фридрих Хеер, обсуждая пьесу, сказал: «Только правда сделает нас свободными. Вся правда целиком, которая всегда ужасна». Это и принцип самой Арендт — говорить всегда ужасную правду, принцип, следовать которому способны немногие.
Клаудия Кунц исследует сам механизм насаждения нацистской идеологии в политическое и обыденное сознание обывателя. Тут и нацистская система образования — от школ до университетов. И прогитлеровские взгляды представителей академической элиты — особо интересно читать о знаменитом философе Хайдегерре. Тут и знаменитый бюрократический аппарат Германии, исполнительность и скрупулезность которого вошла в поговорки. И, разумеется, все возможные виды, как сейчас говорят, силовых структур — армия, СА и СС. Вся государственная и политическая машина Германии тех лет способствовали проникновению и укоренению расового, националистического и антисемитского мышления в головах «простых» немцев. А ведь именно с их молчаливого — и немолчаливого, разумеется! — согласия нацистский режим пришел к преступлениям против человечности.
Этика. Вопросы к зачету
§
Основной целью «Басни о пчелах», которую сам Мандевиль называл «книгой суровой и возвышенной нравственности», является стремление «показать невозможность наслаждаться всеми самыми изысканными жизненными удобствами, которыми располагает трудолюбивая, богатая и могущественная нация, и одновременно обладать всеми благословенными добродетелями и невинностью, пожелать которых можно разве что в золотом веке».
Однако появление «Басни о пчелах» вызвало резкую критику и в 1723г. она была осуждена за распространение неверия и подрыв всех моральных устоев. В чем же причина такого неприятия идей Мандевиля теологами и моралистами того времени?
«Басня» подрывала не христианское учение, а его пуританскую интерпретацию, мирская «аскеза» которого, сошлемся на классическое исследование Вебера, «освобождала приобретательство от психологического гнета традиционалистской этики, разрывала оковы, ограничивавшие стремление к наживе, превращая его не только в законное, но и в угодное Богу занятие». Стоит, впрочем, отметить, что сам Мандевиль отрицал всякое влияние религии на экономическую деятельность, ибо это «отвратительное усовершенствование женской роскоши», по крайней мере, способствовало возникновению трудоемких производств, давших честный заработок множеству трудящихся бедняков.
Тем не менее, пуританский нравственный идеал «буржуазного аскетизма», ориентированный на приобретение земных богатств, на протяжении определенного исторического периода оказывал значительное влияние на общественную жизнь Европы. Иными словами, по мере развития капитализма начали разрушаться моральные ограничения, которые изначально были наложены на капиталистический дух пуританской этикой. Именно эта ситуация и зафиксирована в «Басне».
Мандевиль описал современное ему общество, противопоставив буржуазный уклад жизни и христианскую мораль. Ему удалось доказать их несовместимость, т.к. пороки людей способствуют развитию хозяйства и поэтому буржуазное общество, все члены которого стремятся к праведной жизни, не может стать богатым. В этих условиях христианская добродетель, сочетающаяся со стремлением к наживе, является лишь лицемерием, которое и является основным объектом критики Мандевиля. Коммерческое общество может быть вульгарным, Мандевиль допустил бы это, но оно могло бы быть свободным от лицемерия и ханжества». Эта критика лицемерия протестантизма, конечно, не могла не вызвать раздражения у находившихся под сильным влиянием пуританской морали современников Мандевиля.
Вслед за Дж. Гоббсом Мандевиль рассматривал мораль как превращенную форму человеческих аффектов и эгоистических устремлений — она возникла, когда мудрые устроители общества поняли, что гордость и тщеславие заставляют человека, эгоистичного по своей природе, стремиться к похвале и избегать презрения окружающих. При помощи лести можно заставить людей «поверить, что для каждого из них сдерживать свои желания более выгодно, чем следовать им, и гораздо лучше принимать во внимание не личные, а общественные интересы» Следовательно, нравственность состоит в обуздании эгоистических страстей и, будучи определенной обязанностью людей по отношению друг к другу, является социальным феноменом.
Мандевиль оправдывал человека, а Смит — общество.
Это определяется тем, что Мандевиль считал порочный эгоизм универсальной характеристикой человеческого поведения. По мнению Мандевиля, мораль создана искусственно, чтобы скрепить наше общество, но если мы хотим пользоваться его плодами и не готовы к лишениям, т.е. если мы заинтересованы в процветании экономики, то не следует требовать полного искоренения порока. Следовательно, одна из основных идей автора «Басни о пчелах», который «имплицитно возводит материальное благополучие в статус цели морали», состоит в том, что он освободил собственно экономическую деятельность от этической детерминированности.
| Если же рассмотреть «Басню» без идеологической предубежденности, то мы увидим, что гениальность ее автора заключается лишь в том, что в период зарождения капиталистического строя, когда экономические проблемы выходят на первый план, он смог дать его остроумное и в основном верное описание. Остро критическое отношение к реалиям буржуазного общества порождает уверенность в том, что их простое описание также является критикой, что и случилось с отношением марксистов к басне. Мандевиль, полностью осознавая пороки буржуазного общества, не испытывал к нему ненависти или симпатии — не будучи критиком или апологетом такого общества, он просто мирился с фактом его существования. Высмеивая пуританское ханжество, Мандевиль не призывает к искоренению пороков, а говорит об их необходимости, ибо именно пороки, по его мнению, являются причиной буржуазных добродетелей и основой капиталистического общества. Мандевиль принимал современное ему общество таким, какое оно есть. 40. Классовый хар-р морали и проблема «цели и средств» в выборе исторического пути Л.Троцкий, Г.Померанц |
В работах 30-х годов, посвящённых кронштадтскому мятежу и другим событиям первых послереволюционных лет, немалое место занимали «обличения» большевиков за якобы присущий им аморализм. Эта линия нападок на большевизм также составляла часть идеологической кампании, направленной на отождествление сталинских зверств с политикой и идеологией большевизма. Это побудило Троцкого к написанию ряда работ о принципах революционной, большевистской морали, важнейшей из которых была статья «Их мораль и наша». Под «нашей» моралью имелась в виду мораль большевиков, под «их» моралью — буржуазная мораль и мораль сталинистов.
С позиций диалектического материализма Троцкий рассматривал проблему цели и средств, решение которой антикоммунисты всегда считали главным моральным изъяном большевизма. О том, какое отношение вся эта софистика имеет к истине, говорит разбор Троцким данного «наиболее популярного и наиболее импонирующего обвинения, направленного против большевистского «аморализма». Отвечая на вопросы Веделина Томаса, Троцкий писал: «Как и многие другие, вы видите источник зла в принципе «цель оправдывает средства». Сам по себе этот принцип очень абстрактен и рационалистичен. Он допускает самые различные толкования. Но я готов взять на себя защиту этой формулы — под материалистическим и диалектическим углом зрения. Да, я считаю, что нет средств, которые были бы хороши или дурны сами по себе или в зависимости от какого-либо абсолютного, сверхисторического принципа».
Это не означает, подчёркивал Троцкий, что вероломство и предательство допустимы и оправданы, если они ведут к «цели». Сам выбор средств зависит от характера цели. «Если целью является освобождение человечества, то ложь, подлог и измена никак не могут быть целесообразными средствами. Эпикурейцев противники их обвиняли в том, что, «проповедуя счастье», они спускаются к идеалу свиньи, на что эпикурейцы не без основания отвечали, что их противники понимают счастье… по-свински».
Первым текстом Померанца, который разошелся в «Самиздате», стало его выступление 3 декабря 1965 года в Институте философии«О роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива», посвященное критике культа личности Сталина. Позже Померанц говорил, что этот доклад написан марксистским языком и устарел.
§
Исходная позиция И.А. Ильина в том, что истинное местонахождение добра и зла – человеческий душевно-духовный мир. А само добро и зло в существенном содержании определяются «через наличность или отсутствие… двух сочетающихся признаков: любви и одухотворения. Добро есть одухотворенная любовь; зло – противодуховная вражда. Добро есть любящая сила духа; зло – слепая сила ненависти. Такова сущность добра и зла в христианском сознании. Поэтому «борьба со злом есть процесс душевно-духовный». «Добро и зло в действительности не равноценны и не равноправны; и точно так же не равноценны и не равноправны их живые носители».
Давая обоснование сопротивляющейся силе, И. Ильин считает, что во всяком злодеянии зло провоцирует всех окружающих и заставляет их принять решительную позицию: против зла или в пользу зла. Уклониться от этого испытания нельзя, ибо уклонившийся и отвернувшийся – высказывается тем самым в пользу зла. «Тот, кто перед лицом агрессивного злодейства требует “идеального” нравственного исхода, тот не разумеет, что из этой ситуации нет идеального исхода. Уже простая наличность противолюбовной и противодуховной ожесточенной воли в душе другого человека делает такой, безусловно-праведный, исход до крайности затруднительным и проблематичным».
Отсюда первоначальный вывод Ильина об учении Толстого: «И вот именно этого трагического закона человеческой сущности испугалось доброе сердце Льва Толстого; Такую цену за духовность он не готов был и не хотел заплатить. Первоначалом зла и сущностью его он признал страдания; искал путь к человеческому счастью и нашел его – в усладе сострадания».
Далее, продолжает И. Ильин, когда Л.Н. Толстой и его единомышленники настаивают на необходимости строгого суда над собою, на необходимости различать понятия «человек» и «зло в человеке», они правы и «следуют в этом за священной традицией христианства». Таинственный процесс расцвета добра и преображения зла осуществляется, конечно, любовью, а не принуждением, и противиться злу следует из любви, от любви и посредством любви». Более того, «непротивление» в смысле отсутствия всякого сопротивления «означало бы принятие зла», что «несопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым». Нет сомнения, делает вывод Ильин, что Толстой и примыкающие к нему моралисты «совсем не призывают к такому полному несопротивлению, которое было бы равносильно добровольному нравственному саморазвращению». Напротив, их идея состоит именно в том, что борьба со злом необходима, однако лишь некоторыми, излюбленными ими средствами.
И. Ильин подробно анализирует важное в концепции Толстого понятие «заставления» и отсоединяет его от «насилия». В самом слове «насилие», говорит он, «уже скрывается отрицательная оценка: “насилие” есть деяние произвольное, необоснованное, возмутительное… Против “насилия» надо протестовать, с ним надлежит бороться». Именно поэтому Ильин считает «целесообразным» сохранить термин «насилие» для обозначения всех случаев «предосудительного заставления, исходящего из злой души или направляющего зло». Ему противостоит «непредосудительное заставление, исходящее от доброжелательной души или понуждающее ко благу» .
Толстой и его школа, по мнению И. Ильина, не различают эти понятия, «пишут только о насилии». Они употребляют понятия «насилие» и «зло» как равнозначные, а потому «сама проблема непротивления «злу насилием» формулируется иногда как противление «злу злом» или воздаяния «злом за зло», именно поэтому насилие иногда приравнивается «сатане», а пользование им описывается как путь «дьявола». Понятно, что обращение к этому «сатанинскому злу» воспрещается раз навсегда и без исключений». Стремясь к максимальной объективности, И. Ильин уточняет: «Справедливость требует признать, что все эти ощущения не относятся ими к внутреннему самозаставлению». Таким образом, считает И. Ильин, из всей сферы волевого заставления Толстой и его единомышленники воспринимают только самопринуждение («насилие над своим телом») и физическое насилие над другими, «первое они одобряют, второе – безусловно, отвергают».
Сам Ильин иначе, чем Толстой, ставит основной вопрос «о духовной допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения». Верная постановка проблемы дает совсем иную формулу: «если я вижу подлинное злодейство… и нет возможности остановить его душевно-духовным воздействием», то «следует ли мне отойти и предоставить злодею свободу кощунствовать и духовно губить, или я должен вмешаться и пресечь злодейство физическим сопротивлением, идя сознательно на опасность, страдание, смерть?..» . И такая постановка вопроса «целиком отвергает» толстовскую.
Ильин справедливо отмечает, что «в центре всех “философских” исканий Л.Н. Толстого стоит вопрос о моральном совершенстве человека». Но моралист такого уклада неизбежно будет обречен в жизни «на чудовищные положения». И именно такой пример: «что ответит он себе и Богу, если, присутствуя при изнасиловании ребенка озверелою толпою и располагая оружием, он предпочтет уговаривать злодеев, взывая к их очевидности и любви, и потом, предоставив злодейству совершиться, останется жить с сознанием своей моральной безукоризненности? Или он допустит «исключение»? Но что же тогда останется от всей пресловутой доктрины «непротивления»?».
К этой же проблеме И. Ильин приходит и через анализ идеи «любви» в учении Толстого. Любовь оказывается у писателя-моралиста, «по существу своему, чувством жалостливого сострадания». Такая любовь разоблачает себя в такой ситуации: «Если насильник нападет на «любимого» человека и я в этот момент предпочитаю, чтобы он был убит (хотя бы вместе со мною), чем чтобы я оказал насильнику физическое противодействие, – то вся моя любовь оказывается аффектированным прекраснословием».
§
«Легенда о великом инквизиторе» является философским «центром» романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», в ней автор с невероятной остротой и художественной глубиной раскрывает «вопросы коренные, вопросы духа». Это мотивы этического утилитаризма, деления людей на сильных и слабых, атеизма, опоры на рациональное начало и др. Сложный комплекс философских вопросов, составляющий идею великого инквизитора как мировоззренческое целое, обладает свойством оказывать влияние на личность человека. И свойство это проявляется в различных направлениях, в разных аспектах.
1. Первым из таких аспектов является влияние идеи на личность её носителя. Писатель показывает, как идея, захватившая рассудок, способна поработить личность, повлиять на её коренные свойства. Это касается и идеи великого инквизитора, противоречивая сущность которой порождает внутренний конфликт в душе её носителя и ведёт к тому, что человек, изначально руководствуясь христианскими чувствами, в конечном итоге приходит к нарушению христианских норм.
Этической основой концепции великого инквизитора является утилитарная мораль, суть которой можно сформулировать словами Иеремии Бентама:нравственно всё, что служит наибольшему счастью наибольшего количества людей. Такая позиция неизбежно требует твёрдости воли, решительного отказа от гуманизма по отношению к конкретным людям, становящимся помехой на пути осуществления идеи, которая должна привести к всеобщему благоденствию.
Итак, идея «насильственного счастья» изменяет личность самого носителя этой идеи. Такой человек вынужден прежде всего совершать насилие над собственной нравственной природой, подавлять в себе христианские чувства, из которых, собственно говоря, он и исходил изначально. Отсюда и «инквизиторские» страдания.
Манипуляция сознанием — неотъемлемая часть политики великого инквизитора, и её универсальный инструмент — это ложь. Принимая такой путь, герой вынужден преодолевать сопротивление собственной совести, что лишает его душевного равновесия, и это, в его понимании, неизбежная плата за безмятежное существование обычных людей
Таким образом, согласно позиции Ф.М. Достоевского, нравственные страдания неизбежны, когда человек, близкий по своей натуре к христианской системе ценностей, идёт против принципов христианской этики. Причина этих страданий коренится в том, что в душе человека, захваченного «инквизиторской» идеей, ещё не преодолена до конца христианская сущность, но рационалистическая логика идеи мешает этой имманентной сущности проявиться в полной мере.
2. Второй аспект воздействия идеи великого инквизитора на личность — это влияние её (а точнее, последствий её осуществления) на обычных, «слабосильных» людей, на достижение счастья которых она и была направлена изначально. Как объяснил Иван Карамазов своему брату — первому слушателю «поэмы», — великий инквизитор в принципе обладал достаточной силой характера, чтобы идти по христианскому пути достижения нравственной чистоты и самоотрешения, но он в определённый момент решил позаботиться не о собственном духовном совершенствовании, а об обычных людях, которые не способны на подвиг веры, — он «воротился к смиренным для счастья этих смиренных». Однако утверждение, что «среднестатистический» человек в государстве великого инквизитора полностью счастлив, вызывает большой вопрос.
Однако подобное «счастье» как состояние духа влечёт за собой негативные изменения в психологии как отдельного человека, так и общества в целом.
Человек, жизнь которого полностью контролируется властью, теряет способность самостоятельно мыслить, оценивать факты и действовать. Множество подобных людей — это уже духовно безликая толпа, которой легко манипулировать. Получается, что приверженность к «своеволию» всё же перевешивает для них все блага «устроенной» жизни, и человек (хотя и не любой, разумеется) в душе стремится к свободе, настоящей, не иллюзорной, и ради неё отказывается от «хрустального дворца» (воспользуемся выражением «подпольного человека») идеально организованного социума.
3. Итак, несмотря на то что «миллионы, многочисленные, как песок морской», превращены великим инквизитором в обезличенную толпу, в его государстве всё же появляются «еретики», то есть своего рода инакомыслящие, в той или иной степени противостоящие — сознательно или неосознанно — господствующей идеологии. И на судьбы таких людей идея «насильственного счастья», безусловно, оказывает своё воздействие.
Влияние идеи великого инквизитора на судьбу человека, пытающегося ей противостоять, — это третий аспект рассматриваемой нами проблемы «идея и личность». Насилие, как уже отмечалось выше, становится неизбежным элементом жизни социума, построенного по принципу утилитарной этики. Если личность мешает достижению (или же поддержанию) «счастья» человечества, то она обречена на гибель. Таким образом, воздействие философии великого инквизитора на личность можно рассматривать в трёх «направлениях»: влияние идеи на личность самого носителя этой идеи, на духовное состояние обычных людей и на судьбу человека, противостоящего ей. Причём во всех трёх аспектах это влияние негативное.
Этика истин А.Бадью
В предисловии к английскому изданию короткой книжки «Этика. Эссе о понимании зла» (2001) Бадью дает совет, как отличить человека-животное от человека-субъекта: последнего надо понимать как «локальный фрагмент процедуры истины и как Бессмертное, созданное событием». При этом зло существует, но не в животном измерении человеческого, а как субъективная категория; до него, как и до бессмертия, почти рукой подать. Не бывает лишь радикального, стопроцентного зла.
У него три имени. Зло может являться как предательство, как террор, как катастрофа. Предательство банально, мы часто покидаем процедуру истины — по слабости или под давлением обстоятельств. Террор – это следствие соблазна симулякром, когда вместо пустоты в ситуации видят наполненность, пример чему Германия 33-го. Катастрофа — это идентификация истины с тотальной властью, насильственное распространение истины на все элементы ситуации, как в СССР при тов. Сталине.
Господствующая этика проявляет себя в нескольких фигурах, каждая из которых — инструмент манипуляций над парализованными собственной волей к ничто petit bourgeois. Ее основанием может быть и кантианская конституционная монархия добра, и сетевой протокол коммуникации с небытием по Левинасу. Имя отца и лицо матери — практическое использование обеих версий сводит их к эффекту нигилизма, сильного нашими слабостями влечения к смерти.
Проще возжелать ничто, чем ничего не хотеть, — этот синдром описал еще Ф. Ницше. С тех пор бытие-к-смерти приобрело форму бытия-к-счастью. Ожидание конца призваны скрасить туризм, шоппинг, интерьер-дизайн и TV. Моральный кодекс потребителя правильнее называть этикой смерти, так как в основе его лежит убежденность в том, что единственное, что можно сделать по-настоящему, — это умереть. Такая этика может представлять себя служанкой необходимости, т.н. объективных экономических законов, то есть логики капитала.
Еще одной фигурой нигилизма стала биоэтика. Споры об эвтаназии, требование права умереть побыстрее, но достойно красноречиво свидетельствуют о постигшей отношение к жизни инфляции. Сдаваться смерти без сопротивления: лучше ничто, чем страдания. Возможно, по чистой случайности эвтаназия одерживает свои блестящие победы именно в тех странах, которые оказались самыми легкими жертвами национал-социализма. Но тот факт, что биоэтика, высшее достижение свободного мира, впервые нашла широкое применение в гитлеровском рейхе, вряд ли можно считать совпадением.
Равнодушный к мерцающим полусмыслам, Бадью предпочитает изъясняться формулами, или матемами. При всем этом он неожиданно созвучен российскому контексту — и не только (не столько?) тем, что не скрывает симпатий к Октябрьской революции, или тем, что упорно называет северную столицу России Ленинградом. Скорее другое: Вселенский размах обобщений и беззаветная верность точным наукам, острое чувство социальной несправедливости и страсть к истине, а главное — понимание всемирного и непреходящего значения пустоты.
Что-то слышится родное в универсализме Бадью. Но не в бескрайних, полных евразийской дури степях слагает он свою песню, а в городе контрастов Париже. В своей практике Бадью и L’Organisatiоn Politique придерживаются тактики, называемой ими политикой уникального (politique unique). Асимметричный ответ вездесущему Новому мировому порядку: поддержка акций рабочих-нелегалов (сан-папье), помощь иммигрантам в получении разрешений на работу. Если считать нелегалов социальным эквивалентом Реального, то сан-папье с видом на жительство уже принадлежит регистру символического. И мечтой его становится не социальная справедливость, а скорейшая смычка со средним классом. Дело конечно, благое, но в данном случае разница между Бадью и попом Гапоном, ведшим пролетариев под реальные пули, — чисто символическая.
В эпоху, одержимую вечной молодостью, лучше всего ловить на живца. Субъект истины, поддерживаемый процедурами верификации, в отличие от человека-животного, бессмертен, утверждает Бадью. Бессмертие – это искусство выживать, не сдаваться и не предавать идеалов. Это не медийная полужизнь, дешевая реификация в зайце-утке-яйце, а действительная вечность внутри, даруемая верностью истине-процессу.
Синонимы и антонимы
Родственные по значению термины – сибарит, эпикуреец. Слегка отдаленное, но все же близкое понятие – эстет. Рассмотрим каждый синоним в отдельности.
Сибарит – личность, которая живет ради роскоши и баловства. До нас это понятие дошло из древнегреческого города Сибарис, который отличался особенной пышностью, а жители его – разнузданностью. Древние сибариты любили кушать исключительно деликатесы. На их столах преобладали морепродукты (крабы, устрицы, моллюски) и другие дорогие угощения. В нынешнее время, когда говорят «сибарит», имеют ввиду человека, который избалован роскошью.

Эпикуреец – человек, который живет ради достижения удовольствия путем освобождения от страданий и обид. Это понятие тождественно с гедонизмом, однако отличается тем, что не ставит собственной целью поиск источников счастья. Ведь главным источником удовлетворения является духовное спокойствие и атараксия – безмятежность.

Эпикур, философ, выдвинувший одну из концепций гедонизма, придерживался собственного течения – эпикуреизма, откуда и появилось это название.
Так как гедонизм является формой эстетического наслаждения, нельзя не упомянуть об эстетах.

Эстет – ценитель красоты, изящности, элегантности. Другими словами, эстет получает удовольствие от всего, на что ему нравится смотреть. Порою проявляются формы эстетизма, когда удовлетворение приносит вкусная еда или вид красивого тела. К недостаткам таких людей относится то, что эстеты оценивают все по внешнему виду.
Помимо близких по значению синонимов, также выделяются и антонимы понятия «гедонист». К таким словам относится «аскет».

Аскет – индивид, воздерживающийся от получения удовлетворения и ведущий строгий образ жизни. Такой человек ограничивает себя во всех благах, которые заставляют чувствовать удовольствие и радость.
Аскеты склонны перетруждаться на работе, загружать голову проблемами и мало отдыхать. Эти стрессовые факторы вначале становятся причиной депрессии. А после глубокого психического расстройства даже доходят до самоубийства.








